|
, сообщить о неприемлемом содержимом Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Лев Николаевич Толстой
Детство Толстого
(Из воспоминаний)
Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности, не осталось ни одного ее портрета… в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю – не оттого только, что все говорившие мне про мать мою старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего…
Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я – меньшой и меньшая сестра Машенька…
Старший брат Николенька был на шесть лет старше меня. Ему было, стало быть, десять-одиннадцать, когда мне было четыре или пять, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости – не знаю, как это случилось – говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек… Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории… без остановки и запинки, целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.
Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.
Так вот он-то, когда нам с братьями было – мне пять, Митеньке шесть, Сереже семь лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми; не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями… И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там, в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.
Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги на краю оврага Старого Заказа{Старый Заказ
– лес в Ясной Поляне, где похоронен Л. Н. Толстой.}, в том месте, в котором я – так как надо же где-нибудь зарыть мой труп – просил, в память Николеньки, закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное… пройти, не оступившись, по щелке между половицами, а третье легкое: в продолжение года не видать зайца – все равно живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.
Тот, кто исполнит эти условия и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы то ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска, Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.
В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей…
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.
Оригинал взят у roman_altuchov
в Плаксин С.И. Лев Николаевич Толстой среди детей (Очерк из моих воспоминаний) (1903 г.).pdf  I. ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ КНИГИ: I. ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ КНИГИ:
(PDF, 2,2 Mб.)
http://yadi.sk/d/2gO5qq3eMcoLA
Сергей Иванович Плаксин
(1854 - ?)
познакомился с Толстым в раннем детстве, в связи с пребыванием, после перенесённой детской болезни, на восстановительном лечении на юге Франции. Собственно, этому эпизоду биографии Льва Николаевича и посвящены его воспоминания.
Воспоминания С.И. Плаксина относятся к 1860 г., когда Толстой, находясь за грани-цей, прожил некоторое время на юге Франции в Гиере, а его сестра М.Н. Толстая поместилась на вилле, в трёх километрах от Гиера. Толстой часто бывал на вилле, где жил и Серёжа Плаксин с матерью.
Продолжением отношений с писателем уже взрослого Сергея Николаевича Плаксина стали письма его к Льву Николаевичу. В одном из них, от 26 сентября 1894 года Плаксин, в то время исполнявший должность инспектора типографий и книжной торговли в Одессе, просил у Толстого дозволения «украсить» его именем редактируемый им «Юбилейный календарь-сборник г. Одессы». Во втором - от 6 ноября 1902 года - прислал опубликованные ранее стихи собственного сочинения и просил разрешения на опубликование, вместе со своими воспоминаниями, сохранившегося у него чудом цветного и очень мастерского рисунка, сделанного для него Л.Н. Толстым. Вот ответ Л.Н. Толстого на второе письмо:
 1902 г
. Ноября 17. Ясная Поляна. 1902 г
. Ноября 17. Ясная Поляна.
Очень рад был получить от вас письмо, милый Сергей Ивано-вич, т.е. Серёжа Плаксин в розовой рубашке, который хотел убежать от моих племянниц сначала на конец земли, а потом на конец света, а потом на конец конца света. Я совсем не помню своего рисунка, но, разумеется, уверен, что вы всё, что говорите, говорите правильно. Пожалуйста, извините меня за то, что не поблагодарил вас за присылку ваших стихотворений, и верьте тем добрым чувствам, с которыми вспоминаю наше давнишнее знакомство.
Лев Толстой.
Лизы Оболенской нет со мной, а то бы она велела вам кла-няться. Мы недавно говорили с ней про вас.
Воспоминания Плаксина изданы в 1903 г.: «Граф Л. Н. Толстой среди детей», изд. Сытина. К книге был приложен упоминаемый в письме ри-сунок «волжского разбойника».
Данное переиздание осуществлено с переводом текста книги в современную орфографию, но с сохранением нумерации страниц и иллюстративного материала издания 1903 года.
Приятного чтения!
Р. Алтухов
 III. ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ. III. ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ.
(...) Наконец, раздался звонок и вошёл более чем всегда сияющий хозяин и стал рассыпаться в извинениях перед дамами.
При этих словах г. Тош вынул из кармана несколько золотых монет и договор найма, подписанный „графом Л.Н. Толстым”.
Известие о том, что русское семейство поселится под одной с нами кровлей, привело нас в самое радужное настроение духа и мы почти всю ночь не спали от волнения при мысли встретить соотечественников в таком захолустье, как вилла Тош, в окрестностях Иера!
Мы бы совсем не спали, если б могли пред- видеть, что жильцом окажется гр. Л.Н. Толстой с вдовой его покойного брата, графиней Марией Николаевной Толстой, и её детьми: Колей, Варей и Лизой.
(...) В гостиную вошёл очень высокий, плотный и широкоплечий мужчина, лет 40, с добродушной улыбкой на лице, окаймлённом темно-русой густой бородой. Из-под большого лба с глубоким шрамом (от лапы медведя, как мы потом узнали),
в глубоких глазных впадинах, искрились ум-ные и добрые глаза. Насколько мне помнится, Л.
; Н. тогда походил на портрет, помещенный в „Художественном Листке" Тима.
Л.
Н. говорил громко, но не скоро, а более мягко и ровно; в тоне голоса чувствовалась пря-мота и простодушие, движения были естественны и не носили отпечатка светской выправки; одет он был в коричневый костюм. Он подошёл к моей матери, пожал ей руку и сейчас же заговорил с ней, как давнишний знакомый.
(...) Нечего говорить, что душою нашего маленького общества был Л.Н., которого я никогда не видел скучным; напротив, он любил нас смешить своими рассказами, подчас самого неправдоподобного содержания, и когда наш детский смех уж слишком начинал терзать уши наших маменек, они обращались с просьбой к тому же Л. Н.— засадить нас за какую-нибудь тихую работу, вроде переписки из книг или рисования.
(...) В первый же день приезда, гр. Л.Н. обратил на меня особое своё внимание, узнав от матери моей, что цель поездки нашей на юг — моё слабое здо-ровье и что доктора запретили мне много резвиться и бегать.
— Слышите, — обратился граф к своему пле-мяннику и к племянницам — играйте с Сережей, но не в „разбойники" и не в „горелки”!
(...) ...При малейшей выходке какого-нибудь мальчугана про-тив меня, прямо лез с ним в драку. Он был вообще, что называется, „огонь мальчик“, с золотым сердцем и рыцарской душой. Благодаря его резвости и вспыльчивости моей матери прихо-дилось часто бывать посредницей между ним и графиней, женщиной очень доброй, но болезненно раздражительной.
(...) Л.Н. поставил свой письменный стол в стеклянной галерее с видом на море. Вставал он очень рано, и мы, дети, только на ми-нутку забегали к нему здороваться, помня строгое приказание наших маменек — не беспокоить Л.Н., когда он пишет.
(...) Неутомимый ходок, Л.Н. составлял нам маршрут, изобретая всё новые места для прогулок. То мы отправлялись смотреть на выварку соли на полуострове
„
Porquerolle
”,
то подымались на свя-щенную гору, где построена каплица с чудотвор-ной статуей Пресвятой Девы, то ходили к развалинам какого - то замка, почему - то носившего название
„
Trou
des
f
е
es
“.
По дороге Л. Н. рассказывал нам, детям, разные сказки. Помню я какую-то о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города. Зная мою слабую грудь, он нередко сажал меня на свои плечи, продолжая рассказывать на ходу свои сказки. Надо ли говорить, что мы души в нём не чаяли?..
За обедом, вечером, Л.Н. рассказывал нашим добродушным хозяевам всевозможный забавные небылицы о России, и те не знали, верить ему или не верить, пока графиня или моя мать не отделяли правды от вымысла.
(...)
Лев Николаевич напирал, главным образом, на развитие мускулов.
Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях верёвочные приспособления и сам кувыркался с нами, к общему нашему удовольствию и веселию.
Когда мы слишком расшалимся и маменьки упросят Л.Н. нас унять, — он нас усаживал вокруг стола и приказывал принести чернила и перья.
 Вот образец наших занятий с Л.Н. Вот образец наших занятий с Л.Н.
— Слушайте, — сказал он нам как-то, — я вас буду учить!
— Чему? — спросила востроглазая Лизанька, предмет моих нежных чувств.
Не удостоив племянницу ответом, Л.Н. продолжал:
— Пишите...
— Да что писать-то, дядя,— настаивала Лиза.
— А вот слушайте: я дам вам тему!..
— Что дашь? — не унималась Лиза.
— Тему! — твердо повторил Л.Н. — Пишите: чем отличается Россия от других государств. Пишите тут же, при мне, и друг у друга не списывать! Слышите! — прибавил он внуши-тельно.
И пошло у нас писание...
Коля, бывало, как тщательно не наклоняет голову набок, но у него все линейки ползут в верхний правый угол бумаги. Пыхтит он, пыхтит, издавая носом неопределённые звуки, но ничего бедняге не помогает, а, между тем, Л.Н. строго запрещал нам писать по графленым линейкам, говоря, что это „одно баловство. „Надо привыкать пи-сать без них“. Пока мы, таким образом, излагали наши мысли, графиня и моя мать сидели на диване и читали вполголоса какое-нибудь новое произведение французской литературы, а граф Л.Н. ходил по комнате из угла в угол, чем вызывал иногда восклицание нервной графини:
— Что это ты, Лёвушка, как маятник сло-няешься. Хоть бы присел!..
Через полчаса „сочинения” наши были готовы, и моё было первым, к которому прикоснулся наш ментор. Он пытался было сам прочесть его, но, тщетно стараясь что-либо разобрать в спустившихся к поднебесью линейках, возвратил мне мою рукопись, сказав:
— Прочти-ка сам! — и я громогласно стал чи-тать...
В награду за наши вечерние занятия Л.Н. привёз нам из Марселя, куда он почему-то часто ездил из Иера, акварельные краски и учил нас рисованию; прилагаемый эскиз набросил сам Л.Н. однажды и оригинал его удалось мне со-хранить до сего времени.
(...) Л.Н. проводил почти весь день с нами, — учил нас, участвовал в наших играх и вмешивался в наши споры, раз-бирая их и доказывая, кто из нас прав, кто виноват.
Чаще всего у него выходили столкновения с Лизочкой.
Помню я такой случай: вхожу я в детскую и застаю Лизаньку в слезах; в одной руке у неё был сухарь, а в другой — ложка. На ковре лежала опрокинутая ступка, куски сахара, изюм и другие сладости.
Варя и Коля молча сидели у окна.
Л.Н., видимо взволнованный, ходил из угла в угол.
— Что случилось? — спросил я тихо Варю.
Л.Н., услыхав мой вопрос, ответил громко ни к кому из нас непосредственно не обра-щаясь и не глядя ни на кого.
— Вот что случилось: она (при этом Л.Н. кивнул головой по направлению к Лизе) выду-мала безобразную игру: стряпает из разных сладостей какое-то кушанье, которое сама ест, да к тому же ещё склоняет сестру и бра-та!..
Я не видел в этом ничего дурного, так как и сам не раз участвовал в этой игре, но, чувствуя из ряда выходящую рассерженность Л.Н., не противоречил ему, а он продолжал:
— Это игра безобразная! она развивает жад-ность и портит желудок!.. я запрещаю вам эту игру! — внушительно заключил он.
— Слушай, дядя Лёва, — воскликнула, сверкая глазками, на которых ещё дрожали слезинки, Лиза, — изволь! Я брошу играть в эту игру, но клянусь тебе всем святым, что когда я выйду замуж и у меня будут дети, я запрещу им принимать тебя!.. Помни это!
Такая угроза, в устах прелестной во всех отношениях, но вспыльчивой как огонь Лизы, моментально же вызвала на лице Л.Н. знакомую нам добродуш-ную улыбку и, смеясь, он поднял Лизу на руки и крепко расцеловал.
 Так обыкновенно кончались их недоразумения и распри. Так обыкновенно кончались их недоразумения и распри.
Другое столкновение произошло однажды между Л.Н. и Колей.
Сидит последний в детской и трудится над починкой кожаного хомута на игрушечной ло-шади, недавно ему подаренной, причём старается скрепить сургучом порванные части хомута.
— Напрасно трудишься,— сказал граф, взглянув мимоходом на работу Коли.
— Отчего?
— Оттого, что сургучом кожи не скрепишь... не будет держаться...
— Будет! — возразил Коля, продолжая на- гревать сургуч.
— А я тебе говорю — не будет! — настаивал Лев Николаевич.
— Будет!
— Нет, не будет... вот что! — сказал граф, — если тебе удастся починить хомут, я тебе привезу ещё одну лошадь, а если не удаст-ся — я и эту выброшу за окно!
Коля призадумался и прекратил нехотя своё бесполезное занятие.
Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 11/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю - не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.
Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица - от отца до кучеров - представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, - которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, - четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, - и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет, - рассказывала мне горничная, - но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.
У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Никол еньки (старшего брата), которому было б лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата - равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ...
В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало, - это коротенькое житие одного монаха, имевшего, заведомо всей братии, много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: «Он никогда не осудил никого».
Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их... Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.
Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б......
За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.
Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марью. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти около 1816 года.
Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов о его жесто-костях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и, в особенности, огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателям, избавляло их от притеснения начальства.
Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи и вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял в аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения...
Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящие же ее любви, как я понимаю, были три или, может быть, четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с компаньонкой-француженкой m-elle Henissienne, про которую я слышал от тетушек...
Третье, сильное, едва ли не самое страстное чувство было ее любовь к старшему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему...
Четвертое сильное чувство, которое, может быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь к Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки.
Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой. Таков был духовный облик моей матери в моем представлении. Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне.
Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки-старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме Дедушки и прожившей всю жизнь в доме моего отца; учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве».
Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я - меньшой, и меньшая сестра , вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери, - кажется, не больше 9 лет, - была счастливая и хорошая: Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с нею...
Отец был среднего роста, хорошо сложенный, живой сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами...
Дома отец, кроме занятия хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую, по тому времени, в французских классиках, исторических и естественно-исторических сочинениях - Бюфон, Кювье. Тетушки говорили мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних...
Сколько, я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованья людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то что теперь называется либералом, а просто по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае.
Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная - она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная - сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном - женщина...
Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное - доверчивый. В имении его Белевекого уезда, Полянах, - не Ясной Поляне, но Полянах, - шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, - кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани...
Нужно скачать сочиненение?
Жми и сохраняй - » Воспоминания — Л. Н. Толстой . И в закладках появилось готовое сочинение.
Л.Н.Толстой ВОСПОМИНАНИЯ ВВЕДЕНИЕДруг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения. Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении: ВОСПОМИНАНИЕ Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу, и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю. Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее: Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, - сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие - уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное". Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, - таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, - похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды. Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение. Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, в, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти. Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern"a (его "Sentimental journey") и Topfer"a ("Bibliotheque de mon oncle") [Стерна ("Сентиментальное путешествие") и Тёпфера ("Библиотека моего дяди") (англ. и франц.)]. В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть в неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, - мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное - полезнее другим людям. IРодился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матера своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю - не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего. Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица - от отца до кучеров - представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, - которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, - четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, - и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. "Вся покраснеет, даже заплачет, - рассказывала мне ее горничная, - но никогда не скажет грубого слова". Она и не знала их. У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата - равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ. В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, - я хорошо знал это. Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно находя в этом большое удовольствие.
Толстой Лев Николаевич ВВЕДЕНИЕ ФАНФАРОНОВА ГОРА БРАТ СЕРЕЖА ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ Толстой Лев Николаевич
Воспоминания
Л.Н.Толстой ВОСПОМИНАНИЯ ВВЕДЕНИЕ
Друг мой П[авел] И[ванович] Б[ирюков], взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения. Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только как тени на картине присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь, вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности болезни мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны. Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении: ВОСПОМИНАНИЕ Когда для смертного умолкнет шумный день И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон, дневных трудов награда, В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья: В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья; Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Теснится тяжких дум избыток; Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток: И, с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу, и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. В последней строке я только изменил бы так, вместо: строк печальных... поставил бы: строк постыдных не смываю. Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее: Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет. Какое бы было мучение, если бы я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни. А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознание, - сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие - уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминания, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное". Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна, - таким был только один 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, - похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды. Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение. Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет следующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, в, наконец, последний период моего пробуждения к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти. Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так это нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе: во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern"a (его "Sentimental journey") и Topfer"a ("Bibliotheque de mon oncle") [Стерна ("Сентиментальное путешествие") и Тёпфера ("Библиотека моего дяди") (англ. и франц.)]. В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть в неискренность: желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным, - мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное - полезнее другим людям. Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матера своей я совершенно не помню. Мне было 1 1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно, и я думаю - не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего. Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица - от отца до кучеров - представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одни их недостатки. Мать моя была нехороша собой и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, - которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, - четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский, - и должна была быть чутка к художеству, она хорошо играла на фортепьяно, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. "Вся покраснеет, даже заплачет, - рассказывала мне ее горничная, - но никогда не скажет грубого слова". Она и не знала их. У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата - равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ. В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, - я хорошо знал это.<...>
|
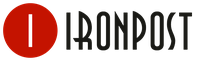

 1902 г
. Ноября 17. Ясная Поляна.
1902 г
. Ноября 17. Ясная Поляна.








