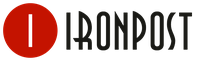Разделы сайта
Выбор редакции:
- Гадание в новый год для привлечения денег Как правильно гадать на новый год
- К чему снится клещ впившийся в ногу
- Гадание на воске: значение фигур и толкование
- Тату мотыль. Татуировка мотылек. Общее значение татуировки
- Что подарить ребёнку на Новый год
- Как празднуют день святого Патрика: традиции и атрибуты День святого патрика что
- Как научиться мыслить лучше Я не умею быстро соображать
- Эти признаки помогут распознать маньяка Существует три способа достижения абсолютной власти
- Как спастись от жары в городской квартире
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?
Реклама
| Антон чехов и старик суворин - история одной дружбы. Восстанавливая светлое имя |
|
Александр ЧУДНОВ Памяти Зои Викторовны Торговец Дружба - многозначительна как поклон. Михаил Лермонтов Журналист имел особую страсть - он коллекционировал не вещи! Он собирал дарования! И делал это умело и со вкусом, так же как зарабатывал и тратил деньги. Он высматривал и замечал талант. Он присматривался к нему, приручал его, поощрял его, покупал его…и становился частью его биографии. Звали журналиста - Алексей Суворин. В знаменитой книге «Последний самодержец», вышедшей в Берлине в 1913 году, читаю: «…редактор-издатель «Нового времени», способный журналист, без убеждений, типичный флюгер, преходящий от черного к белому и обратно без малейшего размышления. В высшей степени соответствует чиновничьему строю, полуофициозом которого его орган считается». Я смотрю на его портрет кисти Крамского и испытываю боль. Отчего? Мне кажется, что я вижу не плоть людскую, а скорее воплощение хитрости и корысти, лжи и злости. Когда же передо мной просто фотографии - то старик на них благодушен, благолепен, светится достоинством и добротой, а в глазах - едва заметна колкая лукавинка. Впрочем, у Крамского он же еще не старик и не миллионер - он почти разночинец, и он еще не коллекционер талантов - он сам талант… На старых снимках - Суворин, а на других Чехов - молодой, но уставший и какой-то грустный… Наверно его уже тяготит известность. Надоели шуты-посетители, бесит пустота окололитературных споров, пугает стремление публики лепить из него идола… Вот 24 ноября 1888 года он и пишет тому же Суворину: «Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. Меня, например, всюду приглашают в гости, везде кормят и поят, как генерала на свадьбе… Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. А это скверно. Скверно и то, что в нас любят такое, чего мы часто в себе сами не любим и не уважаем».
Алексей Сергеевич Суворин сочинил пьесу «Татьяна Репина» и поручил Чехову устраивать в Москве ее сценическую судьбу. Пьеса должна была пойти у Корша. Так как Суворин считал, что спектакль создается усилиями не одной какой-то актрисы, пусть и талантливой, а всей труппой, то перед Чеховым встала задача не из легких. Нужно было померить Ермолову и Никулину при распределении ролей, помня, что основное - это успех премьеры. Чехов называл их «Макиавелли в юбке». И лукаво добавлял: «Что ни баба, то ум». После первого визита к Никулиной Алексей Сергеевич мог прочесть в полученном от Чехова письме: «Жду от Вас дальнейших полномочий. Если нужно в ад ехать - поеду. Я люблю провожать, сватать, шаферствовать. Пожалуйста, со мною не церемоньтесь». И здесь место удивлению… Работая над своей пьесой, А. П. Чехов не дорожил свободной минутой, отдавая ее всю до крох «Татьяне Репиной», и при этом требовал у Суворина черновик «Дуэли», чувствуя, что может продолжать ее. Видимо, увлеченность Чехова сказалась и на старике Суворине. Его внимательное чтение «Иванова» во многом определило содержание IV акта окончательного варианта пьесы. Именно в этот период Антон Павлович Чехов испытывает потребность вновь определить свое отношение к семье Сувориных: «Суворин в высшей степени искренний и общительный человек. Все, что говорил он мне, было интересно. Опыт у него огромный. Анна Ивановна… Из всех женщин, которых я знаю, это единственная, имеющая свой собственный, самостоятельный, взгляд на вещи. …Остальная публика у Суворина - теплые люди и не всегда скучные». Не будет излишним предположить, что именно такое отношение к человеку и его семье, во многом определило интонации чеховских писем. Так настаивая на изменениях в «Иванове», Суворин особо выделял образ Саши, требовал его дописать, доработать. На что получил ответ: «…Извольте, сделаю по-Вашему, но только уж извините, задам я ей мерзавке! Вы говорите, что женщины из сострадания любят, из сострадания выходят замуж… А мужчины? Я не люблю, когда романисты-реалисты клевещут на женщину, но и не люблю также, когда женщину подымают за плечи, и стараются доказать, что если она и хуже мужчины, то все-таки мужчина мерзавец, а женщина ангел. И женщина и мужчина пятак пара, только мужчина умнее и справедливее». Если несколько отойти от содержания слов Чехова, то в них не трудно усмотреть тему едва звучащую, но более емкую, тему - художник и действительность, которую он также постарается осознать в письмах к Суворину, причем она для Чехова станет личной, интимной, как и отношение к женщине. Доверительное, житейское входит в неписаный кодекс общения Суворина и Чехова. «Читайте мне мораль, и не извиняйтесь», - советует Антон Павлович. Сам же он делает это своеобразно: «Я сейчас показал Ваш почерк писарю мирового судьи и спросил: А сколько бы Вам мировой судья заплатил за такой почерк? На рождественских праздниках 1889 Суворин прочел письмо Чехова об «Иванове», и верно понял, что в нем рассказано и то, чего нет в пьесе. После премьеры это впечатление усилилось, и он высказал его Чехову. На что получил ответ: «Иглу, которую Вы вонзили в мое авторское самолюбие, принимаю равнодушно. Вы правы. В письме моем Иванов, вероятно, яснее, чем на сцене. Это потому, что четверть Ивановской роли вычеркнута. Я охотно отдал бы половину своего успеха за то, что бы мне позволили сделать свою пьесу вдвое скучней. Публика величает театр школой. Коли она не фарисей, то пусть мирится со скукой». В феврале месяце Суворин напечатал в «Новом времени» рецензию на «Иванова», где во многом повторил Чеховское письмо от 30 декабря 1888 года, не букву его, а дух. Антон Павлович искренен в своем одобрении ее: «Рецензия прекрасна; ценю ее не на вес золота, не алмазов, а своей души». «Татьяна Репина» шла в Москве с успехом, и это дало повод Чехову для шутки: «Теперь мы с Вами некоторым образом родня: Ваша и моя пьесы шли в один сезон, в одном и том же театре. Оба одинаковые муки терпели, и оба почиваем теперь на лаврах. Вы тоже должны мою фотографию в почете держать». В этот год А. П. Чехов часто встречался со стариком Сувориным, как в Москве, так и в Петербурге. Успех «Медведя» и «Иванова» дал возможность Антону Павловичу думать и читать, из чего он вывел формулу: «ЧИТАТЬ ВЕСЕЛЕЕ, ЧЕМ ПИСАТЬ». Лето 1889 года Чехов проводит на Сумщине в имении Линвинтаревы. В письме от 9 июля он говорит о себе: «Я положительно не могу жить без гостей. Когда я один, мне почему-то становится страшно…» И запись в Суворинском дневнике: «Я люблю шум, движение, толпу». Разный возраст, а в желании быть среди людей они похожи, хотя причины этому разные: у Суворина - старость, у Чехова - умирающий брат Николай. То, что Антон Павлович не забывал в течение лета о характере своих отношений с А. С. Сувориным, ясности хотел в них, следует из письма от 17 октября 89 года. К тому времени уже был написан «Леший». И «со слов Григоровича» Суворин узнал - в этой пьесе есть карикатура на его семейство. Отсюда вопрос к Чехову, и его ответ: «Не радуйтесь, что Вы попали в мою пьесу. Ваша очередь впереди. Коли буду жив, опишу феодосийские ночи, которые мы вместе проводили в разговорах, и ту рыбную ловлю, когда Вы шагали по полям линвинтаревской мельницы, - больше мне от Вас пока ничего не нужно». И далее, Чехов просто называет те черты, что, как он думает, не в характере Суворина: нудность, себялюбие, деревянность в общении с людьми, отсутствие таланта и к тому же патологическая привязанность к сытому своему счастью. Уважение лично к Суворину, доверие к его тонкому литературному вкусу, к умению быть если надо конкретным в привязанностях и не приятии чего-либо в искусстве - становится для Чехова основой для долгой совместной работы с этим человеком. Иначе трудно объяснить, хотя бы тот факт, что работая над «Дуэлью» он иной раз стремился в Петербург лишь за советом, и признавал право на этот совет только за двумя стариками - Сувориным и Плещеевым. Январь 90 года для Чехова важен, как время окончательного решения вопроса о Сахалине - он будет ехать, причем вопреки всем разумным доводам близких, а также и Суворина, к семье которого именно тогда, в 90-м году, он относился как к своей, называл дом в Эртелевом переулке - своим домом. Из письма к брату Михаилу, что писалось 14 января в Петербурге, узнаем: «Ходил сегодня на собачью выставку; ходил я туда вместе с Сувориным, который в то время, когда я пишу сии строки, стоит около стола и просит: Когда обдумываешь тематику переписки А. П. Чехова и А. С. Суворина, то первое что замечаешь - они входили в мельчайшие детали быта друг друга, находили нужным говорить о здоровье, причем подробно, что тот же Чехов делал весьма не охотно даже в отношении с весьма близкими людьми. Стоит вспомнить, как однажды Чехов в письме к Суворину от 10 мая 1891 года говорил о желании «быть маленьким, лысым старичком и сидеть за большим столом в хорошем кабинете». И за этой строчкой - целый мир. Современники знали за А. С. Сувориным слабость к крупному, массивному в вещах, и всех их удивлял большой кабинет издателя «Нового времени», с крепким и внушительным столом. Не знаю, то ли Алексей Сергеевич переносил на вещи свою привязанность к встречам с крупными, не простыми людьми; а жизнь дарила ему их в избытке, то ли просто в этом сказывалась крестьянская натура, с ее извечным стремлением к прочности даже в мелочах. По крайней мере Чехов находил возможным пошутить над этой чертой старика, причем обыгрывал ее не однократно. Что касается вопросов искусства, его технической стороны, то мнение Чехова было для Суворина одной из святынь, к тому же уважение здесь было обоюдным. Сохранились такие слова Антона Павловича: «…предвкушаю Вашу критику, которой, впрочем, не боюсь, так как Вы очень добрый человек и к тому же превосходно понимаете дело - редкое сочетание». Но существовала и отрасль, где на все советы Чехова Алексей Суворин отвечал одним многозначительным: «Гм!» - это коммерция, и связанные с нею рассрочки, печатание и проч. А когда Алексей Сергеевич читал: «Не будим ли мы воевать с немцами? Ах, мне придется идти на войну, делать ампутации, потом писать записки для «Исторического вестника». Весь Ваш А. Чехов. Нельзя ли взять у Шубинского аванс в счет этих записок?» - то замечал лукавинку в последней строке письма, так как знал, что саму процедуру выдачи аванса Сергей Николаевич (одним из лучших сотрудников Суворина по части издательского дела и редактор «Исторического вестника») любил обставлять бесконечными разговорами, жалобами на количество выданных авансов, показыванием множества лицевых счетов и т. д. и т. п. Говоря о большом опыте Суворина - Чехов не преувеличивал. Именно он - этот опыт, вселил Алексею Сергеевичу неприязнь к Потапенко. Свидетельства тому - страницы несохранившихся писем к Чехову, и строка дневника. Запись от 25 марта 1899 года: «Потапенко умер. Вот о ком не жалею» Эту жесткость в характере Суворина Антон Павлович заметил сразу, чем был весьма озадачен. Пытаясь объяснить природу отношений столь различных личностей, как Антон Чехов и Алексей Суворин, не забудем об одной черте, которую Антон Павлович постоянно выделял и в себе и в своем друге. Это - МНИТЕЛЬНОСТЬ. К тому же не сколько в отношении к здоровью (тут поводы находились всегда и в достаточном числе), сколько в отношении к ТВОРЧЕСТВУ. Не будь этой мнительности у Суворина, возможно, многие удивительно емкие суждения Чехова о ТАЙНЕ литературного РЕМЕСЛА, остались бы достоянием лишь их встреч.
Серьезный разлад в отношениях с Сувориным у Чехова возник исподволь, не сразу. Как-то твердо въелось в его сознание, что „Новое время” само по себе, а Суворин в нем человек чужой. Потребовались годы и годы, что бы из под пера Чехова вышла злая и верная характеристика нововременцев. Она датирована февралем 1901 года: „НОВОЕ ВРЕМЯ в настоящее время пользуется дурной репутацией, работают там исключительно сытые и довольные люди (если не считать Александра, который ничего не видит). Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты, т. е. он говорит искренно, быть может, но нельзя поручится, что через полчаса же он не поступит как раз наоборот. Сыновья (Суворина) ничтожные люди во всех смыслах, Анна Ивановна тоже стала малкой”. А в конце года Чехов, словно подводя какой-то итог, решит - „НОВОЕ ВРЕМЯ” умрет вместе с А. С. Сувриным. Всякая история имеет свою предысторию - весь вопрос в том нужно ли ее рассказывать. Чехов думал - что не всегда нужно.Но здесь она необходима. Начну с сыновей Суворина. Антон Павлович еще в 90-м году выразил свое мнение о них, как о людях по коим плачет тюрьма, и нарек старшего - Алексея (по сути издателя „Нового времени”) - инфантом. Видимо, Чехов не испытывал уважения к персоне этого дельца, хотя иной раз проводил в его обществе довольно много времени, даже однажды пытался лечить его, и часто в письмах к Суворину-отцу интересовался той или иной деталью из жизни Алексея Алексеевича. Серьезная неприязнь братьев Сувориных к Чехову начала крепнуть после случайно прочитанного письма от 24 февраля 1893 года. „Я собирался писать Суворину, но не написал ни одной строчки, и потому письмо мое, которое так возмутило дофина и его брата, есть чистейшая выдумка, но раз идут разговоры, значит, так тому и быть: старое здание затрещало и должно рухнуть. Старика мне жалко, он написал мне покаянное письмо; с ним, вероятно, не придется рвать окончательно; что же касается редакции и дофинов, то какие бы то ни было отношения с ними мне совсем не улыбаются... К тому же по убеждения своим я стою 7375 верст от Жителя и К 0 . Как публицисты они мне просто гадки...” Такая категоричность все же не лишила Чехова надежды найти общий язык с нововременцами, даже как бы оттягивала срок решения стоящих проблем. Он продолжал беседовать в письмах с А. С. Сувориным объясняя это тем, что „бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я не с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомы, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами чувствую себя свободно”. Человек привыкает ко всему на свете. Это своего рода погружение в сон, чтобы отстранить его от себя нужно приложить усилие, порой значительное. У Чехова к этому еще присоединялась иллюзия свободы общения, которую поддерживал со своей стороны А. С. Суворин. Был ли здесь умысел? Думаю, что нет, хотя из слов Чехова, сказанных в феврале 1901 года, такой вывод напрашивается. То, что Чехов не был равнодушен к судьбе А. С. Суворина, что на вопрос: жаль ли ему его? - ответил: «Конечно, жалко. Его ошибки достаются ему недешево. Но тех, кто окружает его, мне совсем не жалко» - говорит о многом. В письме от 24 апреля Чехов в своем отношении к суду чести предельно искренен - он не приемлет суд над личностью Суворина, но «раз пришла нужда или охота воевать с Вами не на жизнь, а на смерть, отчего не валять на чистоту? Общество было последние годы враждебно настроено к «Новому времени». Составилось убеждение, что «Новое время» получает субсидии от правительства… И «Новое время» делало все возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию… Публика ставила «Новое время» рядом с другими несимпатичными ей правительственными органами, она роптала, негодовала, предубеждение росло, составлялись легенды - и снежный ком вырос в целую лавину, которая покатилась и будет катиться, все увеличиваясь». Правительственная поддержка «Нового времени» имела место. Сегодня это документально подтверждено. А Чехов это ощущал. И испытывал почти физическую боль, от бесполезности своего письма, сравнивая его с бульканьем камешка, падающего в воду, а возможно и соглашался с Горьким в оценке старика Суворина и иже с ним, как гнилого дерева, которому нечем помочь. Но все же помогал словом - а слово Чехова это сила. Это понимала даже Анна Ивановна, излишне эмоционально напоминавшая Чехову, что он обязан помочь А. С. Суворину, дать ему возможность не чувствовать своего одиночества.
Он интересовался его здоровьем, радовался успеху пьесы «Вопрос». Каждая встреча Антона Чехова и старика Суворина дарила им праздник. И в Петербурге и в Москве они бродили по толкучим базарам, ресторанам, ходили в театры, и когда речь вновь заходила о приезде Суворина к Чехову или же Чехова к Суворину, особенно весной и летом, Антон Павлович то и дело вспоминал еще об одном любимом месте их совместных прогулок - то Новодевичьем кладбище, то о Троицкой лавре или о Александро-Невской лавре, где покоилась первая жена Алексея Сергеевича. Чехов и Суворин дважды вместе были за границей. Там, как вспоминал позже А.С. Суворин, «…его [Чехова] интересовали - кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта - грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех над окружающими и над самим собой». Что касается толкования этой «странности» Антона Чехова и старика Суворина, то есть удивительные строки в рассказе Василия Шукшина «На кладбище». Они объясняют все: 2006.
1. А. П. Чехов. ПСС (письма) в 12-ти томах. - М.: Наука, 1974-1983. 10. В. П. Оболенский. Последний самодержец. Очерк жизни царствования императора России Николая ІІ. - М., 1992. Суворины апрель – август 1886 года В апреле Антон Чехов снова встретился с Сувориным, и в этот раз их связала крепкая дружба, которую впоследствии разрушит расхождение во взглядах, поначалу вызывавшее взаимный интерес. Суворин сразу почувствовал в Чехове редкостный талант и душевную тонкость, а Чехов нашел в Суворине тактичного покровителя. На то, чтобы Суворин убедился в твердости чеховской натуры, а Чехов – в слабости суворинского характера, уйдет двенадцать долгих лет. А пока они были нужны друг другу: газета «Новое время» нуждалась в литературном гении, а Чехову надо было торить дорогу в петербургские писательские круги. В последующее десятилетие лишь с Сувориным Чехов был предельно откровенен – тот отвечал ему взаимностью и, несмотря на разницу в возрасте, был с Чеховым на равных. У Суворина, солдатского сына, рожденного в российской глубинке (Бобровский уезд Воронежской губернии соседствовал с краями, откуда пошел чеховский род), с Чеховым было много общего – свой путь наверх он прокладывал сквозь тернии учительства и репортерства; пробовал себя в литературной критике и драматургии. В конце шестидесятых годов он приобрел известность как либерал, а в конце семидесятых, числя себя другом Достоевского, устремился в политику, сделав свою газету самой читаемой, самой почитаемой и самой порицаемой за ее близость к правящим кругам, за национализм, а также за обширный раздел объявлений, в которых молодые безработные француженки «искали себе места». При этом он сохранил независимость: у номинального редактора газеты, М. Федорова, всегда был наготове чемоданчик с вещами – на случай, если иной журналистский выпад Суворина будет чреват тюремным заключением. Суворин вырастал в могучего издателя и владельца обширной сети книжных киосков на российских железных дорогах. Натура у Алексея Сергеевича Суворина была сложная – человек большого ума, он был лишен остроумия; в своих передовицах высказывал верноподданнические, а в дневнике – анархистские взгляды. Его пороки были продолжением его же достоинств: антисемитский бред «Нового времени» совмещался с привязанностью к пожилой еврейке, учившей музыке суворинских детей и нашедшей приют в его доме. Даже злейшие из суворинских врагов говорили, что он боится лишь смерти и газеты-конкурента. Театральный критик А. Кугель вспоминал: «Когда он в своей меховой шапке, расстегнутой шубе и с крепкой палкой являлся с мороза за кулисы театра, мне почти каждый раз приходила в голову фигура Грозного царя Ивана Васильевича… Что-то лисье в нижней челюсти, в оскале рта и острое в линиях лба… <…> Мефистофель Антокольского… <…> Его сила, секрет его влияния и острота его взгляда были в том, что он, подобно одному из крупнейших политических и философских гениев, очень глубоко проникал в дурную сторону человеческой натуры <…> В том, как он угощал Чехова, как он глядел на него, как обволакивал его взглядом, было что-то напоминающее богатого содержателя, вывозящего в свет свою новую „штучку“». Первая жена Суворина, Анна Ивановна, погибла в обстоятельствах, вызвавших сочувствие даже его врагов. Однажды сентябрьским вечером 1873 года ничего не подозревавший Суворин был вызван в отель «Бельвю», где в одном из номеров обнаружил жену, которая умирала от огнестрельной раны, нанесенной ей любовником. Через четыре года Суворин снова женился, и снова на Анне Ивановне, однокласснице дочери, бывшей на двадцать два года его моложе. По натуре кокетка, молодая жена тем не менее защищала интересы мужа с яростью тигрицы. Суворин отвел ей в своей жизни третье место – после газеты и театра. Несчастья преследовали его семью одно за другим: в 1885 году погибла от диабета сбежавшая с любовником старшая дочь Александра, а следом умер малыш Григорий, третий ребенок от второго брака. Суворин пережил четверых своих детей и любимого зятя. Он замкнулся в себе, его мучила бессонница. Он редко ложился спать, не дождавшись утреннего выпуска газеты, и ночи напролет просиживал в кабинете, довольствуясь чашкой кофе и порцией цыпленка. Или же одиноко бродил по проспектам и кладбищам Петербурга. Когда его семейная жизнь совсем расстроилась, он удалился в загородное поместье, оставив дела сыну Алексею, «Дофину», который в результате и подорвал могущество его газетной империи. Как и у Антона Чехова, любовь Суворина к своей родне порой сменялась раздражением. Как и Антон, Суворин в одиночестве искал компании, а в компании – одиночества. Суворин, впрочем, отличался изрядным кумовством. Антон Чехов был не первым из выпускников таганрогской гимназии, которого Суворин взял под крыло, – его финансовый управляющий Алексей Коломнин покинул Таганрог десятью годами раньше Чехова и женился на суворинской дочери. Его брат, Петр Коломнин, заведовал типографией Суворина. Взяв под покровительство Антона, Суворин не раз предлагал работу Александру, Ване, Майе и Мише Чеховым. Вскоре в суворинском доме у Антона появилась собственная двухкомнатная квартира, а младшую дочь Настю, тогда еще девятилетнюю девочку, Суворин прочил Чехову в жены. Сорок лет спустя Анна Ивановна Суворина вспоминала первый визит Антона Чехова в их дом: «У нас в квартире, вопреки обычаю, зал был предоставлен детям в их полное распоряжение. <…> в одном из его углов стояла большая клетка с всегда леною сосною, где жили и умножались до 50 канареек и чижей, зал был на солнце; птицы там заливались, дети, конечно, шумели, да еще надо добавить, что и собаки тоже принимали участие <…> Явился Чехов <…> прямо на „ярмарку“…<…> Улыбаясь познакомился со мною, со всеми детьми, – и мы сели с ним около клетки на диванчик. Он спросил у детей название всех собак, сказал, что сам очень любит собак, причем насмешил нас <…> Мы разговаривали довольно долго. <…> Чехов был высокого роста, тонкий, очень стройный, с темно-русыми волнистыми волосами, серыми, немного с поволокою чуть-чуть смеющимися глазами и с привлекательной улыбкою. Он говорил приятным мягким голосом и чуть-чуть улыбаясь, когда обращался к тому, с кем вел беседу. <…> Мы с Чеховым быстро подружились, никогда не ссорились, спорили же часто и чуть не до слез – я по крайней мере. Муж мой прямо обожал его, точно Антон Павлович околдовал его. Исполнить какое-нибудь желание его, не говоря о просьбе, для него было одно удовольствие». Антон завоевал сердца суворинских детей (на какое-то время – даже Дофина), его слуги Василия Юлова и французской гувернантки Эмили Бижон. Философ Василий Розанов, кстати, тоже получивший известность благодаря Суворину, с удивлением отмечал: «Совершенно исключительна была какая-то нежная любовь Суворина к Чехову <…> Мне кажется, если бы Антон Павлович сказал ему: – „Пришла минута, нуждаюсь в квартире, столе, сапогах, покое и жене“, – то Суворин бы сказал ему: – „Располагайтесь во всем у меня“. Буквально». Все это не могло не вызвать ревность у журналистов суворинского окружения. Одним из них был Виктор Буренин, закадычный друг и конфидент Суворина. Ему ничего не стоило скабрезной эпиграммой или едкой критикой уничтожить молодого литератора. История их знакомства началась лет двадцать назад. Суворин сидел в парке на скамейке, отчаявшись достать денег на акушерку для беременной жены. Буренин, тогда еще студент, разговорился с ним и в результате отдал ему всю бывшую при нем наличность. С тех пор они были неразлучны. Буренин, как и Григорович, убедил Суворина в том, что у Чехова большое будущее, однако пользуясь правом безнаказанно нападать даже на суворинских любимчиков, вскоре взялся и за него, и злобная клика газетчиков из «Нового времени» рассеяла по всему Петербургу семена неприязни к начинающему московскому писателю. Тем не менее, весной 1886 года Антон был счастлив. Обеды в ресторанах с Сувориным, выходы в свет – все это опьяняло и лишало сна. Необходимость писать ради денег отступила, и Лейкин уже не мог рассчитывать на еженедельную чеховскую дань. Той весной в «Новом времени» появился лишь один рассказ Чехова – «Тайный советник». Трогательная история о том, как визит знатного родственника вызвал необычайное смятение в тихом сельском поместье, предвосхищает сюжет пьесы «Дядя Ваня». Впрочем, этот чеховский рассказ был лишен какого бы то ни было оттенка сенсационности, которого всегда ожидали читатели «Нового времени». В рассказе проступают воспоминания детства, проведенного в окрестностях Таганрога, и, пожалуй, впервые звучит ностальгия по невозвратным безмятежным дням, которой будет окрашена поздняя чеховская проза. Между тем Антона зазывали к себе Киселев и все обитатели Бабкина. Там было хорошо, пели щеглы и звенели комары. Коля приехал туда с кистями и красками, в спешке оставив у Анны Гольден зубную щетку и пеньковые брюки. Надеясь, что художник в Коле возобладает над любовником, Антон поначалу оставлял без внимания письма Франца Шехтеля, в которых тот негодовал по поводу Колиных пьяных разгулов. К концу апреля Коля совсем зарвался: он выпросил у управляющего театром «Эрмитаж» Лентовского сотню рублей и засел в Бабкине, время от времени выбираясь в Москву на очередную пьянку. Шехтель метал громы и молнии; пытаясь воззвать к Колиной совести, одно из писем к нему он послал в конверте с надписью «С вложением 3000 рублей»: «Друже! Пальта у меня два, а денег ни хуя – впрочем, будут на днях, пока тебе есть в чем выехать – приехал бы на минуту ко мне». Жаловался Шехтель Антону и на беспутного Левитана, хотя женщины не отвлекали того от живописи. Шехтель сетовал: «Левитан, конечно, пишет и вздыхает по своей бесштанной красавице, но несчастный он все-таки человек; сколько приходится ему истратить на щелок, ждановскую жидкость Лодиколон и на всякие другие дезинфекцирующие специи и сколько положит труда, чтобы уснастить ими свою любвеобильную половку и сделать ее достойной для восприятия его ахалтекинских ласок». Левитан появился в Бабкине позже всех – он задержался в Крыму, откуда писал Чехову: «Да скажите, с чего Вы взяли, что я поехал с женщиной? Тараканство здесь есть, но оно и было здесь до меня. Да потом, я вовсе не езжу на благородном животном таракании, оно у меня было рядом (а здесь, увы, нет)». Десятого мая Антон вернулся из Петербурга в Москву и на следующий день вместе с матерью, сестрой и Мишей отправился в Бабкино. Тут и началось настоящее веселье. Молодежь занималась живописью, удила рыбу, проводила время за играми. Левитан наряжался диким чеченцем, а братья Чеховы устраивали шутейные судебные процессы над Колей по делу о пьяных дебошах. На забаву киселевским детям Антон сочинял рифмованные бессмыслицы под названием «Сапоги всмятку». При этом он находил время для лечения крестьян и писал в «Осколки», «Петербургскую газету» и «Новое время» ставшие классикой юмористические рассказы, такие как «Роман с контрабасом». Тогда же был написан и первый философский рассказ, «Скука жизни», в котором идеалисты и циники ведут спор о том, что надлежит делать русскому человеку, наделенному чувством гражданского долга. У Чехова, в отличие от Достоевского и Толстого, никто не выигрывает спора, неизбежно заходящего в идеологический тупик. В то лето Антон пытался выработать новый тип рассказа, раскрывающего тщетность всяческих речей и умствований. В 1886 году он написал гораздо меньше по сравнению с прошлым годом, однако все это время готовил себя к серьезной работе над прозой, которая была уже на подходе. Едва только Антону удалось вытащить Колю из постели Анны Гольден и московских пьяных вертепов, как на горизонте появился брат Александр. Двадцать первого мая он надиктовал Антону письмо, к которому его жена добавила отчаянный постскриптум: «Антон Павлович, ради Бога придумайте, что нам делать, Саша ослеп вдруг вчера в 5 часов вечера, он после обеда лег спать, по обыкновению выпив порядочно, потом проснулся в 5 часов, вышел из своей комнаты поиграть с детьми и велел подать себе воды, выпил воду, сел на постель и говорит мне, что ничего не видит, я даже сразу и не поверила». Коля решил, что Александр всех разыгрывает, однако вскоре в эту историю пришлось поверить: Александру дали отпуск для прохождения лечения в Москве и Петербурге. Третьего июня он появился в Москве в доме у Вани. Оттуда же Павел Егорович писал Антону: «Прошу моих детей беречь глаза больше всего, занимайтесь писанием больше днем, а не ночью, действуйте разумно, – без глаз плохо, милостыню просить и пособия – это большое несчастье. Коля и Миша, берегите глаза, Вам еще нужно долго жить и быть полезными Обществу и себе. Мне неприятно видеть, если вы потеряете хорошее зрение. Саша ничего не видит, подают ему хлеб и ложку и все. Вот последствия своей воли и влечения своего разума на худое, увещаний моих он не послушал». Александр, его жена Анна, их незаконные дети, а также дети Анны от первого брака, которых она время от времени брала к себе в дом, прожили два месяца с Павлом Егоровичем и Ваней в его казенной квартире. Павел Егорович спокойствия не возмущал. Александр лечился от алкоголизма, и постепенно к нему возвращалось зрение. Десятого июля он писал Антону: «Сообщу кстати курьез, от которого меня тошнит, мутит и в груди шевелится легонькая струнка чего-то совестливого. Вообрази себе, что после ужина я наяриваю свою „мать своих детей“ во весь свой лошадиный penis. Отец в это время читал свой „Правильник“ и вдруг вздумал войти со свечою, узнать, заперты ли окна. Можешь себе представить мое положение! Одна картина стоит кисти десяти Левитанов и проповедей ста тысяч Байдаковых. Но фатер не смутился. Он степенно подошел к окну, запер его, будто ничего не заметил, догадался потушить свечу и вышел впотьмах. Мне показалось даже, что он помолился на икону, но утверждать это не смею». В середине июля Коля снова пропал – на этот раз он отправился в Таганрог к кузену Георгию и дяде Митрофану. В Бабкино заявился Александр с семьей. Антон пришел в ужас – он мечтал совсем о другой компании. Он безнадежно пытался выманить из Москвы Шехтеля, осыпая его упреками: «Житье в городе летом – это хуже педерастии и безнравственнее мужеложства». Затем, сделав вид, что ему необходимо подменить в больнице доктора Успенского, перебрался в Звенигород. После поездки в Петербург Антон стал тяготиться своими братьями. Между тем ветреная писательская слава пока поднесла ему горькую пилюлю: престижный журнал «Северный вестник» напечатал анонимную рецензию на «Пестрые рассказы», в которой предрекал гибель молодого таланта: «Кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-то под забором <…> Вообще книга г. Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленною смертью газетного царства». Полагая, что автором рецензии был Н. Михайловский, Чехов затаил на него обиду на всю жизнь. Чем больше на Антона нападали, тем сильнее он нуждался в сестре Маше. Закончив высшие женские курсы, она обрела профессию по крайней мере на ближайшие два десятилетия, а вместе с нею и уверенность в себе. Маша устроилась преподавать в частную женскую гимназию Ржевской, чьи родственники были владельцами молочной фермы и магазинов, отчего гимназию Чехов в шутку прозвал «молочной», а классных дам – «коровками». Маша переросла уже и роль посредницы, через которую Антон знакомился с интересными и независимыми девушками. Евгения Яковлевна уступила ей место хозяйки дома. В начале августа именно Маша поехала из Бабкина в Москву подыскать для семьи квартиру потише. Как это часто бывало в девятнадцатом веке, сестра для своих братьев была прислужницей, к которой те, впрочем, относились с обожанием. Двоюродный брат Георгий писал Антону: «Я заключил из всех симпатичных рассказов дорогого Михалика [Михаила Павловича ], что она есть у вас богиня чего-то доброго, хорошего и милого». Богиня богиней, но прислужница должна знать свое место: летом в Бабкине впервые произошло столкновение семейных интересов. Левитан взялся учить Машу живописи, и из-под ее кисти стали выходить неплохие акварельные пейзажи и портреты. Левитан, имевший сотни связей с сотнями женщин, сделать предложение руки и сердца решился лишь однажды. Вот как вспоминала об этом семьдесят лет спустя девяностодвухлетняя Мария Павловна Чехова: «Вдруг Левитан бух передо мной на колени и… объяснение в любви. <…> Я не нашла ничего лучшего, как повернуться и убежать. Целый день я, расстроенная, сидела в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. <…> Антон Павлович встал из-за стола и пришел ко мне. „Чего ты ревешь?“ Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так: „Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты“». Когда бы Маша ни заговаривала с Антоном о претендентах па ее руку, его реакция была отрицательной. И хотя он никогда открыто не возражал против ее замужества, его молчание, а также (при необходимости) кое-какие закулисные хлопоты явно свидетельствовали о его неодобрении и даже сильном беспокойстве по этому поводу. Сестру Машу удержать от брака Антону было под силу, а вот собственных подруг удержать подле себя ему не удалось. Дуня Эфрос, хотя и приняла от него привезенные из Петербурга шоколадные конфеты, предпочитала держаться на расстоянии. Ольга Кундасова увлеклась профессором Бредихиным из московской обсерватории. Лили Маркова уехала в Уфу и затерялась там среди башкир. Вернувшись в Петербург, она приняла предложение художника А. Сахарова. Алексей Киселев, всегда видевший в личной жизни Антона много забавного, откликнулся на это событие виршами, которые декламировались по всему Бабкину: А. П. ЧЕХОВУ Сахаров женился И уж как дивился, Что дыру у Лили Раньше просверлили! Кто? узнать он хочет И добьется толку - А Антон хохочет С Лилей втихомолку. Едет он, не свищет, И коли разыщет, Как задаст трезвону Блядуну Антону! Трепку, да такую, Чтоб не забывать И в дыру чужую Слез не проливать. Подобные мысли, правда не столь игриво оформленные, приходили в голову и другим людям. Прочитав напечатанный в одном из августовских номеров «Нового времени» чеховский рассказ «Несчастье», Вера Билибина сказала мужу, что под видом Ильина, бесстыдного совратителя замужней героини, автор вывел самого себя. И вообще она не выходила, когда Антон появлялся у них в доме. Четыре года спустя Билибин оставил ее ради секретарши редакции «Осколков» Анны Соловьевой. У Веры не было никакого сомнения в том, что Антон оказал пагубное влияние на ее мужа. Из книги Не упасть за финишем автора Бышовец Анатолий Федорович Из книги «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» Мы умирали, чтобы победить автора Михин Петр АлексеевичГлава двенадцатая Днестровский плацдарм Апрель - август 1944 года Форсирование Днестра11 апреля дивизия подошла к Днестру пятью-шестью километрами севернее Бендер. В ночь на двенадцатое основные силы противника скрытно покинули свои позиции и переправились за Днестр, Из книги Жизнь Антона Чехова автора Рейфилд ДональдГлава пятнадцатая Притяжение Петербурга: август 1885 - январь 1886 года Осенью Антона вновь закружила суматошная городская жизнь. Не заставили себя ждать и барышни. Среди Машиных подруг выделялась вспыльчивая Дуня Эфрос. В Москве, где отношение властей к евреям было крайне Из книги Поль Верлен автора Птифис ПьерГлава шестнадцатая Помолвка: январь 1886 года Мысли о женитьбе посещали Чехова довольно часто, однако прежде чем он решится на этот шаг, пройдут долгие пятнадцать лет. Своим поведением он напоминает гоголевского Подколесина, который, увидев наконец долгожданную невесту, Из книги Мэрилин Монро автора Спото ДональдГлава семнадцатая Признание: февраль - апрель 1886 года Редактор «Будильника» Курепин, вернувшись после новогодних праздников из Петербурга, объявил Чехову, что крупнейший издатель Суворин хочет печатать его рассказы в субботнем приложении к «Новому времени». Чехов с Из книги Жизнь Антона Чехова [с иллюстрациями] автора Рейфилд ДональдГлава восемнадцатая Суворины: апрель - август 1886 года В апреле Антон Чехов снова встретился с Сувориным, и в этот раз их связала крепкая дружба, которую впоследствии разрушит расхождение во взглядах, поначалу вызывавшее взаимный интерес. Суворин сразу почувствовал в Глава XV ЛЮСЬЕН ЛЕТИНУА, ИЛИ ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМУДРИИ (август 1879 - апрель 1883) …Без права долго размышлять оставлен я судьбою. Поль Верлен «Любовь» Чтобы быть рядом с Люсьеном, Верлен решил увезти его в Англию, где они бы зарабатывали себе на жизнь уроками французского. Так, Из книги автора Из книги автораГлава 15 Притяжение Петербурга август 1885 – январь 1886 года Осенью Антона вновь закружила суматошная городская жизнь. Не заставили себя ждать и барышни. Среди Машиных подруг выделялась вспыльчивая Дуня Эфрос. В Москве, где отношение властей к евреям было крайне враждебным, Из книги автораГлава 16 Помолвка январь 1886 года Мысли о женитьбе посещали Чехова довольно часто, однако прежде чем он решится на этот шаг, пройдут долгие пятнадцать лет. Своим поведением он напоминает гоголевского Подколесина, который, увидев наконец долгожданную невесту, сбегает от Из книги автораГлава 17 Признание февраль – апрель 1886 года Редактор «Будильника» Курепин, вернувшись после новогодних праздников из Петербурга, объявил Чехову, что крупнейший издатель Суворин хочет печатать его рассказы в субботнем приложении к «Новому времени». Чехов с готовностью Из книги автораГлава 39 Лето с таксами апрель – август 1893 года В четверг, 15 апреля, в Мелихово приехала Маша и привезла с собой 5 фунтов сала, 10 фунтов грудинки, 10 фунтов свечей и двух маленьких такс. Темненького кобелька она назвала Бром, а рыжеватую сучку – Хина (Антон потом окрестил их Из книги автораГлава 68 Последний мелиховский сезон апрель – август 1899 года По прибытии в Москву Чехов был вызван в Театрально-литературный комитет, где выслушал оскорбительные для себя замечания. Затем он забрал пьесу «Дядя Ваня» из императорских театров и передал права на нее Из книги автораГлава 21. В окружном комитете партии сионистов-социалистов в Киеве (апрель-август 1906 года) В начале апреля, сразу после Песаха, меня пригласили в Киев. Аарон (Соколовский) известил меня, что его переводят на работу поближе к центральному комитету, и ему надо передать мне дела В последнее время количество таких писем значительно увеличилось. Тон некоторых из них звучит уже не предложением, а требованием, а в двух я прочел дословно, что будет нехорошо, если я не напишу о Чехове и Суворине. Берусь за эту задачу с величайшею неохотою. Вопрос об отношениях таких больших людей, как А.С. Суворин и А.П. Чехов, и их взаимовлиянии есть вопрос исторический. А исторические вопросы должны исторически же решаться. А для исторического разрешения этого исторического вопроса мы, современники обоих писателей, имеем еще слишком мало фактических данных, критически проверенного материала. Поэтому решительно все, что сейчас пишется о Суворине и Чехове, не выходит за пределы априорного импрессионизма. И естественное дело: там, где еще не произведен строгий, опытный анализ, можно ли ждать дельного синтеза? Я равным образом не обещаю к освещению этих отношений ничего, кроме личных впечатлений, которые, быть может, имеют перед некоторыми другими лишь два преимущества. Являются: 1) впечатлениями человека, знавшего и любившего обоих писателей; 2) впечатлениями, потерявшими всякую страстность и личный интерес за давностью, отделившею меня от обоих писателей. С А.С. Сувориным я расстался 15 лет назад. За этот промежуток виделся с ним только однажды, в 1904 году, - свиданием, очень любопытным и важным для личной характеристики А.С., но не имевшим никакого отношения к его общественной роли. Я не считаю себя вправе оглашать этот ночной разговор. Скажу лишь кратко, что весь он был посвящен семейному делу, волновавшему тогда А.С. Суворина: раздорам между ним и старшим его сыном Алексеем Алексеевичем, основателем "Руси". Нахожу должным прибавить, что в разговоре этом Алексеем Сергеевичем не было сказано ничего, что могло бы бросить дурную тень на Алексея Алексеевича и дурно характеризовать самого старика. Итак, А.С. Суворин для меня - воспоминание пятнадцатилетней давности. Чехов уже десять лет лежит в гробу, и после 1898 года я, кажется, уже его не встречал, хотя именно в этот период между нами окрепли очень хорошие отношения по письмам. О Чехове я так много писал, что мне нечего распространяться о том, как глубоко я люблю и уважаю этого великого и мудрого писателя. Для меня Чехов - самая святая из святынь русской литературы, непосредственно примыкающая к и , любимая, как , стоящая рядом с и и для нашего поколения во многом выразительнейшая и нужнейшая даже обоих последних. Прибавлю к этому, как человек, знавший , то вблизи, то издали, почти четверть века, что громадный талант и тончайший ум совмещались в нем с великою душою, беспредельною сердечностью без фраз и громких слов, с твердым и ясным характером, красота которого будет раскрываться с годами все в новых и новых светах. Потому что при жизни истинный Чехов был спрятан от громадного большинства своих поклонников (не говорю уже о врагах!) за тою, знающею себе цену, скромностью мудрого наблюдателя-молчальника, которая создавала ему среди близоруких людей репутацию человека замкнутого, скрытного, гордого, даже сухого. Заглянув в нее, и не заметишь, как напишешь целую статью. А я уже достаточно рассказывал о том в своих "Славных мертвецах". Вот почему мне всегда почти оскорбительно читать те статьи, те vies imaginaires, в которых неловкое доброжелательство (опять-таки не говорю уже о явном или скрытом зложелательстве) старается раздробить поразительную цельность личности Чехова искусственным делением его биографии на три периода, будто бы резко различные между собою: Антоша Чехонте, суворинский Чехов, Чехов либеральных дружб и Московского художественного театра. Неправда это. Не было трех Чеховых. Был он один, всегда все тот же, цельный, прямой, ясный, с первых резвых рассказов в "Будильнике" и "Осколках" до стука лопахинского топора в "Вишневом саде"... Ах, уничтожая сад дворян Гаевых, вырубил в нем роковой топор и семь досок на гроб Антону Павловичу! Сегодня его венчали лаврами, три месяца спустя лаврами забрасывали уже его могилу. Непрерывную логичность, стройную последовательность, глубокую внутреннюю связь всей мысли и всей жизни Антона Чехова я готов отстаивать с полным собранием его сочинений в руках. Думаю, что печатаемое ныне, том за томом, собрание его писем, которого я еще не видел, дало бы мне только новый богатый материал к этому доказательству. А думать так позволяют мне прежние сборники чеховских писем, изученные мною недурно. И вот, повторяю, потому-то особенно неприятно, даже до противности, бывает, когда этого, кругом самостоятельного, сплошь естественного, последовательного, логического и с большою волею человека обращают ни с того ни с сего в какую-то пассивную куклу, которой поступки, мысли и писания зависели будто бы от того, с кем он в тот или другой "период" своей жизни и творчества был знаком и близок. Чехов был человек, да еще и какой, а вовсе не кукла, которою сегодня играет Суворин, завтра - Гольцев, послезавтра - Художественный театр и т.д. И в этом кукольном переряживании, которым так часто хотят облечь Чехова, кроме унизительной для последнего фальши есть и еще одна нехорошая черта. Человеком человека ударить мудрено - разве уж ты уродился Ильей Муромцем: А и крепок татарин, - не ломится,
Но куклою человека ударить очень легко и можно. И вот как скоро Чехова обращают из человека в куклу, то и начинают - весьма неглиже с отвагой - им помахивать по тем физиономиям, в коих форма носов не по вкусу тому или иному пишущему имяреку. По-моему, и неумная, и ложная, и дурная это система. Так нельзя. Фальшивость подобных опытов обнаруживается с особенною наглядностью, когда Чеховым стараются бить по Суворину. Большая ненависть к последнему наводит многих на тенденцию рассматривать "суворинский период" Чехова как темное пятно в жизни и творчестве Антона Павловича. Суворина при этом изображают каким-то демоном-отравителем, который губил и вовсе погубил бы чеховский талант, если бы его не спасла либеральная Москва. Чехов очень хорошо сделал, что сошелся с либеральною Москвою. Да и не мог он с нею в конце концов не сойтись. Это сближение было совсем не случайным и внезапным, но естественным, логическим, непременным. Но я прямо и категорически утверждаю, что для того, чтобы либеральная Москва приняла Чехова в свои объятья, ему не пришлось ни на йоту изменить прежнему себе. Либеральная Москва приняла его совершенно тем же, каков он был у Суворина. И в позднем покаянии, что в 80-х годах прозевала в обычных предубеждениях огромный талант, - поклонилась она Чехову, а не Чехов ей. Существовала в последние годы и еще существует тенденция умалять значение Суворина в жизни Чехова и развитии его таланта. Эта тенденция, питаемая чисто политическими мотивами, писателем-реалистом принята быть не может. Это - выдуманное. Беспристрастный, объективный исследователь это отвергнет. Сквозь какую призму ни глядеть на роль Суворина в жизни Чехова - она прекрасна. Совсем нет надобности ее преувеличивать, уверяя, будто Суворин создал Чехова. Это такая же неправда, как та, что Суворин Чехова погубил. Создавать Чеховых путем редакторского и издательского доброжелательства нельзя. Для того чтобы вырос орел, нужен орленок, а раз есть орленок, то он и в индюшатнике вырастет в орла. Нет никакого сомнения, что и без Суворина Чехов вырос бы в громадную литературную величину. Но нет также никакого сомнения, что Суворин, быстро угадав в Чехове орленка, преклонился пред ним со всем восторгом, на какой только способен был этот литературный энтузиаст. И с того дня с дороги Чехова могучая и властная рука убирала едва ли не все колючие шипы, обычно ранящие ноги молодых писателей. И орленок рос по-орлиному, а не по-индюшечьи, в такой свободе и холе, как вряд ли удавалось кому-либо еще из сверстников Чехова... Не о материальных только условиях говорю, хотя и о них забывать не следует, а прежде всего именно о моральных. Когда спорят о том, кто "открыл" Чехова, и стараются перебить эту честь у Суворина именами Григоровича и Плещеева, - мне смешно. Потому что уж если полную-то правду говорить, что никто из трех названных не открыл Чехова. Эта Америка была открыта много раньше. А.Д. Курепин, роль которого в начале чеховской карьеры еще слишком мало освещена и оценена, и Н.А. Лейкин, широчайше открывший ему свой журнал для практики маленького рассказа, в которой Антон Павлович выработал свою сжатую технику, сыграли как литературные крестные отцы Чехова роль уж никак не меньшую, чем Григорович и Плещеев. В особенности преувеличивается роль Григоровича. Дело совсем не в том, кто именно, ознакомившись с рассказами Антоши Чехонте, крикнул о нем в уши Суворину слово: "Талант!" Подумаешь, мало подобных аттестаций о других слышал Суворин даже и от того же Григоровича и от людей, которым он верил побольше, чем Григоровичу. А в том дело, что Суворин, проверив коснувшийся его слуха отзыв, сразу уверовал в Чехова. Понял в нем великую надежду русской литературы, возлюбил его с страстностью превыше родственной и сделал все, что мог, для того, чтобы молодое дарование Чехова росло, цвело и давало зрелый плод в условиях спокойствия и независимости - шло бы, в полном смысле слова, своим путем. Влюбленный в Чехова, Суворин не требовал от Антона Павловича никаких компромиссов с "Новым временем". Зато почти десять лет оберегал его дарование от компромиссов подчинения какому бы то ни было литературному лагерю - компромиссов, неизбежных для художественного таланта в тяжелых условиях 80 - 90-х годов и положивших свою печать на все без исключения тогда возникшие силы. Суворин бросил под ноги Чехову мостки, по которым молодой писатель перешел зыбкую трясину своих ученических лет, не нуждаясь для опоры ног ни в кочке справа, ни в кочке слева. И когда настало Антону Павловичу время выбрать свой общественно-литературный лагерь, он занял в этом лагере место уже как сила авторитетная и власть имеющая, а не служкою на испытании. В печальных мытарствах подобных испытаний увяли дарования многих и многих, коих экзаменовали: "како веруеши?" - до тех пор, пока свежие таланты не отцвели без расцвета, довременно впав в "собачью старость". А когда вспомнишь, кто иногда эти экзамены производил, да потом вдруг видишь, что экзаменуемых-то скушали и экзаменаторы-то потом преспокойно пошли во благовремении на службу в чиновники особых поручений при Тертии Филиппове, Победоносцеве и Плеве и в директора лицеев при Шварце и Кассо, то делается очень нехорошо на душе... Суворин спас Чехова и от опасности истрепаться в безразличной мелкой работе, и от насильственной дрессировки своего таланта по трафарету тогдашних передовых толстожурнальных программ, и от озлобления экзаменующею диктатурою, создававшего нарочных реакционеров и притворных индиф-ферентистов, которыми так богаты были именно 90-е годы. Он избавил его и от участи Потапенко - налево - и от участи Кигна - направо. Дал ему вырасти внепартийным и независимым. Те, кто говорят, будто Чехов суворинского периода чем-то разнился от Чехова "Русской мысли", забывают, что почти одновременно Чехов печатал у Суворина столь русско-мысльскую (если возможно подобное слово) повесть, как "Дуэль", а в "Русской мысли" столь нововременную (конечно, не в нынешнем, а в тогдашнем смысле), до безжалостности скептическую в отношении к главному общественному идеалу той эпохи, как "Записки неизвестного человека". И кто же не помнит, какою бурею в народническом лагере отозвались "Мужики" Антона Чехова? И, обратно, кто же не помнит, с какою злостью огрызалось иной раз на Чехова "Новое время", еще когда он печатался в газете? Нет, не было ни Чехова суворинского, ни Чехова либеральной Москвы, а был только Чехов сам по себе, перед которым Суворин благоговел с первого его серьезного выступления в литературе, а либеральная Москва пришла к тому же благоговению десять лет спустя, при условиях, нисколько не изменившихся. И в той заслуге, что гений Чехова мог спокойно развиться в такую победную самостоятельность, Суворину, конечно, принадлежит громадная часть, которая и останется незабвенной в истории русской литературы. И напрасно стараются ее умалить те, не столько критики, сколько политики, которым очень хотелось бы приобрести Чехова, но вычеркнуть из его жизни Суворина. Это все равно что вычеркнуть из Чехова и "Сумерки", и "Хмурых людей", и "Дуэль", и "Иванова", не говоря уже об оставшемся позади Антоше Чехонте. Не видав Алексея Сергеевича Суворина пятнадцать лет, не могу судить, каков он был в глубокой старости. Но, знав его с 1894-й по 1899 год, я смею утверждать, что ни прежде, ни после не встречал редактора-издателя, который бы так уважал в сотруднике звание литератора, почтительно относился к его индивидуальности, берег каждое дарование, казавшееся ему симпатичным и кое-что обещающим. Вопрос даровитости для него решал все. Талант заслонял человека. Так, например, глубокий демократ по натуре, он недолюбливал в Сигме молодого бюрократа с аристократическими замашками, но признавал его талантливым, и это слово решало отношения. Я не застал в "Новом времени" Жителя, но не только от других, а и от самого Алексея Сергеевича слыхал неоднократно, что это был человек крайне тяжелый: болезненно подозрительный, мучительно ссорливый, едва ли не одержимый каким-то психозом и иногда просто едва выносимый. Но Житель был талантлив и, стало быть, с Сувориным - квиты. Из этих примеров суворинского культа талантливых людей ясно, что, когда Суворину выпало на долю счастье встретить талант не в отрицательной форме какого-нибудь полубезумного Жителя, но свежим, чистым, благоуханным цветком незапятнанного чеховского дарования, старик должен был влюбиться в свою находку безгранично. Так оно и было. Недавно где-то в газете мелькнули мне слова о разрыве Чехова с Сувориным. Когда произошел этот разрыв, если был он вообще, - я не знаю. Во всяком случае, не в 90-х годах, так как в 1897 году Чехов, приезжая в Петроград, останавливался у Суворина не только в его доме, но даже в его квартире. Он был окружен в этот приезд таким благоговейным вниманием, что один старый литератор, несколько злоязычный, на вопрос мой, будет ли он на очередном суворинском четверге, преязвительно ответил: Право, не знаю-с, меня Антон Павлович не приглашал. Суворин не выносил, чтобы о Чехове говорили дурно. Он ревниво относился к критическим отзывам о Чехове, страдал, когда не нравилась какая-нибудь чеховская вещь. Скажу о себе самом. Я как-то долго не мог войти во вкус "Дуэли". И вот однажды в Москве, в пору коронации 1896 года, мы двое, Алексей Сергеевич и я, оба влюбленные в Чехова, буквально переругались из-за "Дуэли". Я находил ее ниже чеховского таланта, а Суворин вопил, что Чехов ниже своего таланта ничего написать не может. Даже и сейчас смешно вспомнить, как мы, начав эту бурю в номере гостиницы "Дрезден", продолжали ее по лестнице, сели с нею на извозчика; к Триумфальным воротам оба истощили все свои слова, а затем уже ехали безмолвным двуглавым орлом, глядя в разные стороны до самой "Мавритании", и только за обедом, без слов, помирились. Ужасно я любил в таких случаях старика Суворина. Да и вообще я очень любил его и рад думать, что он, кажется, тоже питал ко мне хорошие чувства. На почве того благоговения, которым в душе Суворина были окружены имя и образ Чехова, решительно не могли расти какие-либо погубительные для последнего отравы, о которых в последнее время пошли намеки и экивоки. Мне могут возразить, что ведь любовью можно заласкать и отравить хуже, чем злобою. Да, только не такою любовью, как была суворинская к Чехову, и не такого человека, как Чехов. Вот теперь мы подходим к вопросу: влиял ли Суворин на Чехова? Литературно влиял безусловно и не мог не влиять, как талантливый и широкообразованный старый писатель и одаренный превосходною справочного памятью, неутомимый разговорщик на литературные темы. Как тонкий ценитель художественного творчества, поразительно чуткий к образному слову. Как знаток русского языка и блестящий стилист. Это влияние я не только допускаю, но и знаю, что оно было. Чехов сам говорил мне, что двум воронежцам, Курепину и Суворину, он обязан окончательною очисткою своего языка от южных провинциализмов. Что касается до влияния Суворина на общественные взгляды и вообще формировку мышления Антона Чехова - это влияние представляется мне не более вероятным, чем если бы кто сказал мне, что статуя была изваяна из мрамора восковой свечой. Очень широкое добродушие А.П. Чехова и снисходительность его к людям, неверно понятые и окрашенные иными чувствительными мемуаристами, придали во многих воспоминаниях образу его какую-то напрасную и никогда не бывалую в нем мармеладность. Точно этот поэт безвольного времени и безвольных людей и сам был безвольным человеком. Отнюдь нет. Чехов был человек в высшей степени сознательный, отчетливый, чутко ощущавший себя и других, осторожный, многодум и долгодум, способный годами носить свою идею молча, пока она не вызреет, вглядчивый в каждую встречность и поперечность, сдержанный, последовательный и менее всего податливый на подчинение чужому влиянию. Я не думаю даже, чтобы на Чехова можно было вообще влиять , в точном смысле этого слова, то есть внушить ему и сделать для него повелительной мысль, которая была чужда или антипатична его собственному уму. Чтобы чужая мысль могла быть принята, одобрена и усвоена Чеховым, она должна была совпасть с настроением и работою его собственной мысли. А работа эта шла постоянно, непрерывно и... таинственно. Кому из работавших с Чеховым не известно, что он иногда на прямо обращенные к нему вопросы и недоумения отвечал странным, ничего не говорящим взглядом либо еще более странными, шуточными словами? Кому, наоборот, не случалось слыхать от него произносимые среди разговора внезапные, загадочные слова, которые повергали собеседника в недоумение: что такое? с какой стати? - а Чехова вгоняли в краску и конфуз? Это - разрешалась вслух, в оторвавшейся от окружающего мира сосредоточенности, долгая и упорная, безмолвная внутренняя работа писательской мысли над вопросом, когда-нибудь не нашедшим себе ответа, над образом, не нашедшим себе воплощения. Я сам был свидетелем подобных чеховских "экспромтов", но особенно богаты ими воспоминания актеров Московского художественного театра. Типический аналитик-материалист, "сын Базарова", неутомимый атомистический поверщик жизни, враг всякой априорности и приятия идей на веру, Антон Павлович, я думаю, и таблицу умножения принял с предварительным переисследованием, а не на честное слово Пифагора и Евтушевского. Влиять на этот здравый, твердый, строго логический и потому удивительно прозорливый ум была задача мудреная. Правду сказать, вспоминая людей, о которых говорят, будто они влияли на Чехова, я ни одного из них не решусь признать на то способным. То, что имело вид влияния, очень часто было просто своеобразным "непротивлением злу", то есть какому-нибудь дружескому насилию, которому Антон Павлович зримо подчинялся по бесконечной своей деликатности. А иногда и по той, слегка презрительной, лени и равнодушию к внешним проявлениям и условностям житейских отношений, что развивались и росли в нем по мере того, как заедал его роковой недуг. Оседлать Чехова навязчивою внешнею дружбой, пожалуй, еще было можно, хотя, сдается мне, и то было нелегко. Подавлять же и вести на своей узде творческую мысль Чехова вряд ли удавалось кому-нибудь с тех пор, как в Таганроге он впервые произнес "папа" и "мама", до тех пор, когда в Баденвейлере прошептал он холодеющими устами немецкое "ich sterbe". Менее всего мог влиять на склад и направление мыслей Чехова А.С. Суворин. Если бы мне сказали наоборот: Чехов на Суворина, - я понял бы. Даже думаю, что это и бывало не раз. В "Маленьких письмах" Суворина, иногда так сверкающе великолепных, по всей вероятности, найдутся при тщательном их исследовании отблески чеховского света. Но чтобы Чехов подчинял свое общественное наблюдение и мысль суворинскому влиянию, я считаю столько же невероятным, как... Ну, я не знаю, кто сейчас в России самый знаменитый анатом! Павлов, что ли? Как вот ему - сочинить учебник анатомии под влиянием какого-нибудь блестящего художника-импрессиониста. Чехов как социальный мыслитель не мог быть под влиянием Суворина совсем не потому, чтобы между ним, врачом-восьмидесятником, слегка либеральным москвичом-скептиком эпохи, разочарованной и в революции, и в реакции, и в консерваторах, и в либералах, и А.С. Сувориным, главою тогдашнего "Нового времени", с его политически приспособляющимся индифферентизмом, лежала в 80-х и 90-х годах уж такая непроходимая пропасть. С Сувориным в то время отлично ладили люди гораздо более левые, чем Чехов. А с последним сблизиться ему было тем легче, что их роднил общий и совершенно однородный демократизм типических писателей-разночинцев. Я познакомился с Сувориным лет на семь позже, чем Чехов, уже близко к половине 90-х годов, когда газета его уже стремилась в правительственный фарватер, и уже раздавался националистический девиз "Россия для русских", и вся сотрудническая молодежь в "Новом времени", с А.А. Сувориным во главе, состояла из "государственников". Однако я живо помню, как иной раз - и далеко не редко - в старике среди разговора вспыхивал вдруг ярким огнем радикал-шестидесятник и летели с его уст словечки и фразы не то что "либеральные", а, пожалуй, и анархические. Что он в душе был гораздо либеральнее многих молодых тогдашних "государственников", вышедших из развращающей школы гр. Д.А. Толстого, - я нисколько в том не сомневаюсь. Да и имел тому неоднократные доказательства. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался, старик осаживал: так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью... А в действительности старик - вечная жертва внутреннего раздвоения, - просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро не отвечает за литературный вечер. Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка, - сказал он мне однажды, - но когда-нибудь вы пожалеете, что ее напечатали. А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы, и когда я пришел "ругаться", Суворин возразил мне с большим чувством: Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломать себе шею. И в обоих случаях он был прав. И наоборот, именно он отстоял мои "примирительные" корреспонденции из Польши в 1896 году, с которых начался мой первый разлад с "Новым временем". Вообще, это оптический обман - сваливать на старика Суворина всю ответственность за реакционные струи в "Новом времени" 90-х годов. Молодая редакция шла по пути государственно-охранительной идеи шагом, и более последовательным в практике, и более повелительно формулированным в теории, чем нововременцы-старики. Шестидесятная закваска, быть может, назло им самим, делала их скептиками в идеях, которыми самонадеянно дышало поколение, воспитанное реакционными 80-ми годами. То, что молодой редакции казалось непременною программою, скептикам-индифферентам старой представлялось не более как пробным опытом: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Это была и хорошая, и дурная сторона стариков. Хорошая потому, что препятствовала им доходить до абсурдов, до которых сгоряча, идя по прямой линий чисто умозрительной и притом априорной политики, договаривались сотрудники-восьмидесятники. Дурная потому, что поддерживала в них способность к импрессионистическим компромиссам, которые так удобно приспособляли каждую идею к обстоятельствам, что она не могла дойти ни до категорического торжества, ни до категорического крушения. Молодую редакцию "Нового времени" государственнический культ привел, в порядке весьма быстрой эволюции, в идейный тупик, откуда не было никакого выхода. Здесь оставалось: либо признать разумность тупика и застрять в нем, последовательно принимая всю логику торжествующей реакции и участвуя в ней (Сигма, Энгельгардт), либо признать ошибочною уже исходную точку направления, которое тебя в этот тупик привело, и резко и решительно повернуть в сторону противоположную (Потапенко и я в 1899 году, А.А. Суворин с редакцией "Руси" в 1903-м). Старики, и во главе их сам А.С. Суворин, от подобных острых и тяжких переломов были застрахованы именно своим скептическим импрессионизмом, поразительно отзывчивым и зыбким и с широчайшею амплитудою. В ней преоригинально встречались и предобродушно уживались "увенчание здания" с анархизмом, религиозный идеализм с нигилизмом 60-х годов и воинствующий национализм с самым широким культурным космополитизмом. Трудно мне представить себе человека более русского, как в положительных, так и в отрицательных чертах характера, чем А.С. Суворин. А в то же время не много на своем веку встречал я и таких европейских людей, с его чисто западническим самообразованием, с любовью к западной культуре, к западным народам, западному искусству, с энтузиазмом к Франции, Италии. И вот, например, эта черта чрезвычайно связывала его с Чеховым, которого мы еще в "Будильнике" дразнили "западником Чехонте". Потому что, при совершенной своей тогдашней невинности по части иностранных языков, он, - также из русских русский человек, настолько русский, что иностранцы его очень туго понимают, - он в то же время умудрялся уже смолоду быть в самом деле типическим, насквозь западником в каждом произнесенном слове, в каждой написанной строке. - "Вуй!" - крикнул западник Чехонте, - трунил над ним Курепин, описывая юбилей "Будильника", и уверял, будто "вуй" - единственное французское слово, которое нашему западнику известно... Шутка была преувеличена, но, конечно, мы все, питомцы гимназии 70-х годов, очень дурно знали языки. А последние шестидесятники, как Курепин, весьма нас тем "пиявили". Престранное это дело на Руси. Почти все типические, убежденные, ярые, с пеною у рта, можно сказать, ее азиаты - люди, чуть не с колыбели блистательно владеющие тремя-четырьмя западными языками, получившие, в полном смысле слова, европейское воспитание и даже иногда до старости лет предпочитающие русской речи французскую или английскую, потому что на родном языке они изъясняются не только с меньшим красноречием, но иногда даже не весьма бойко и правильно. А европеец-русский, тоже почти всегда, достиг до практического и непосредственного знакомства с людьми, литературою и культурою Европы - хорошо еще, если в поздней юности, а то и в весьма зрелые годы. И почти никогда не говорит сколько-нибудь хорошо ни на одном языке, кроме родного. Кажется, этот контраст свойственен исключительно русскому обществу. По крайней мере, я не встречал его в других народах настолько типически выраженным на обе стороны. В таких, например, полярных представителях, как образованнейший, утонченнейший, начитаннейший барин-парижанин К.А. Скальковский, - однако кругом азиат", и разночинец, в 26 лет принявшийся самообразованием чинить прорехи казенной школы и профессиональных университетских лет, далеко не блестяще воспитанный, совсем уж не утонченный и не так много читавший Антон Чехов, - однако кругом европеец!.. Помню один разговор свой с А.С. Сувориным, когда он, недовольный моим упрямством по некоторому чисто частному вопросу, преподнес мне: Вы самодур, как все русские. Да уж будто все русские самодуры? - засмеялся я на его столь типическую для него гиперболу. Все! - закричал он. - Все!.. Мы, от Петра Великого до последнего нищего на улице, все, все, все - самодуры, собственно говоря. И пожалуйста, ангел мой, вы о себе иного не воображайте: и вы самодур, и я самодур, и Леля (А.А. Суворин) самодур... все! А Антон Павлович, - возразил я, подставляя старику излюбленный пробирный камень, - тоже самодур? Веселое лицо Суворина приняло выражение благоговейной нежности, которую имя Чехова всегда навевало на его черты, так напоминавшие умного удачника-бурмистра в большом и богатом барском владении. Помолчав, он произнес с удивительною теплотою, вдумчиво, убедительно, проникновенно: Антон Павлович? Нет, вот Антон Павлович не самодур. Он не только понимает - он знает линию жизни... Мы вот с вами понимаем, что дважды два - четыре, а все-таки нам хочется, чтобы было пять. И мы не утерпим: как-нибудь да попробуем, нельзя ли, чтобы вышло по-нашему - не четыре, а пять... А Антон Павлович и понимает, и знает. Поэтому он энергии своей на напрасную пробу не израсходует... нет!.. Зато если мы с вами возьмемся доказывать, что дважды два - четыре, то истратим много слов, а все-таки не докажем так убедительно, как он одним словом... И, радостно глядя на меня поверх очков, седой человек договорил в совершенном восторге: Узкий он человек, Антон Павлович, собственно говоря... чрезвычайно узкий человек! Таким тоном договорил и с таким хорошим лицом и взглядом, что любо и весело было смотреть на него и почти завидно на молодую способность старика так страстно и сильно обожать любимый талант и, в восторге к этому мнимо "узкому" человеку, даже заочно греть его своею шуткою. В присутствии Чехова для Суворина не существовало никого другого. Общеизвестна слабость А.С. к именитому обществу. Наедет к нему всякая превосходительная и сиятельная, мундирная и звездоносная знать. А он между именитыми посетителями бродит по кабинету подчеркнутым этаким демократом, в пиджаке и с сигарою в зубах, и чрезвычайно много доволен... веселый... лукавый... старый... Но присутствие Чехова для него заслоняло упоение и этим покоренным мирком. Смотря на Чехова как на живой кумир, он даже ревниво и подозрительно относился к тем, кто в это время между ними становился, вмешиваясь в их разговор. Словом, любовь была настолько страстная и выражалась настолько ревниво, что Чехов иногда даже отчасти тяготился ее преувеличенным вниманием... Однажды, именно в 1897 году, в Петрограде мы втроем - Антон Павлович, Вас.Ив. Немирович-Данченко и я - уговорились провести вечер вместе, поболтать о Москве и прошлых временах. Уже приехав в ресторан Лейнера, где мы должны были встретиться, я вспомнил, что ведь сегодня четверг и Чехов вряд ли может быть, так как это - суворинский день. Однако он не только пришел, но и, когда я выразил ему сожаление, что мы ошиблись в назначении дня, он возразил, что, напротив, - очень рад. И объяснил именно ту причину, о которой я только что говорил: стесняла его людность суворинских четвергов, влюбленное внимание хозяина и отсюда тайное недовольство и даже враждебность иных гостей, чего такой тонкий наблюдатель, как Антон Павлович, конечно, не мог не заметить. Я люблю с Алексеем Сергеевичем вдвоем походить ночью по кабинету... - сказал он между прочим. - Вы любите? Очень, когда он в духе. Антон Павлович посмотрел на меня с удивлением и возразил: Слушайте же: он всегда в духе... Я мог бы ему ответить: "Когда вас видит..." Но Антон Павлович продолжал, развивая мысль, с которой я не мог не согласиться, что о Суворине совершенно нельзя сказать, как об иных людях, что тогда-то он в духе, тогда-то не в духе... Настроение зависит не от него, а от человека, с которым он беседует. Он может быть совершенно убит, подавлен каким-нибудь впечатлением, но если вы подбросите ему в разговор живую, интересующую его тему, он сейчас же и сам не заметит, как вцепится в нее своей необычайно быстро хватающей мыслью, и весь от нее загорится, и хмурая туча с него сойдет, как бы ни важны были ее причины... "Разговорить" Суворина можно было когда угодно и от какого угодно настроения, и многие этим артистически пользовались. Вот в этом была между ними глубокая разница. "Разговорить" Чехова было нельзя, и когда он, веселый Антоша Чехонте, задумался, то уже на всю жизнь и до самого Баденвейлера так никто его и не "разговорил". Суворин частную свою жизнь прожил далеко не счастливцем. В прошлом его остались жестокие и тяжкие трагедии. Но у него был "счастливый характер", тот великорусский упругий и скользкий характер, который, по-моему, лучше всего выразил Щедрин в своем всевыносящем портном Гришке: Я, ваше высокородие, человек легкий... Поэтому пережитые трагедии не отняли от Суворина ни бодрости, ни живучести, ни радостного отношения к жизни. Способность наслаждаться сладкою привычкою к жизни, говорят, не изменила ему до самого последнего конца, хотя два года он был лишен самого любимого своего дела: говорить. В этом он, по-моему, был очень схож с человеком, которого он не любил, который его не любил, а все-таки между ними было много общего: с В.В. Стасовым. В жизни А.П. Чехова, бедной "внешними фактами", никаких трагедий не было. За исключением дурного здоровья, он был, можно сказать, счастливый человек. Но вот его-то характер был уж совсем не "счастливый". В противоположность Суворину, он ужасно глубоко зачерпывал жизнь даже в самых незначительных ее мелочах. Совсем не заботясь о том, совсем непроизвольно. Уж как он смолоду был весел, а смех его и тогда уже сам собою разрешался в трагедию. Либо вдруг развертывал из-под своих, как будто поверхностных, резвых форм картину такой пошлости, что вдруг становилось гадко, жутко, грустно и "за человека страшно"... Вспомните моряка в его "Свадьбе". Вспомните парикмахера, который не в состоянии достричь дядю изменившей ему невесты... Черпал страшно глубоко, и каждая зачерпнутая капля всасывалась в него долго не проходящим, неизгладимым впечатлением. И нараставшая сумма неизгладимостей, день за днем, сгущала то единство грустно-скептического настроения, которым так выразительно отмечены и последние сочинения Антона Павловича, и вообще весь он на переходе от XIX века к XX... Чехов не был слеп в отношении Суворина. Он видел старика насквозь и не скрывал этого ни от других, ни от него. И любил его такого, как видел, отнюдь не прикрашивая и не идеализируя. Суворин вас любит, - сказал он мне в 1895 году. - Это хорошо. Слушайте же, он не худой старик. Суворин видел Чехова лишь настолько, насколько тот позволял проникать в себя. Вообще-то, этот разрешенный слой вряд ли был глубок. Чехов был не из тех, кто любит конфиденции. Но иногда он внезапно отворял храм души своей - именно перед Сувориным. О двух таких случаях я знаю непосредственно от Алексея Сергеевича. Он со слезами на глазах рассказывал, что, как ни высоко ценил он и ставил Антона Павловича, но только вот в подобных двух беседах - однажды в Петрограде и однажды в Венеции - понял он во весь рост все величие и всю трагическую глубину этого удивительного человека... Оставим Чехову чеховское, а Суворину - суворинское и не будем несправедливы ни к тому, ни к другому. Ни Суворин не был бесом-соблазнителем, ни Чехов - наивно соблазненным ангелом. Оба они и лучше, и хуже сложившихся их репутаций, в которые и справа и слева всякий охочий доброволец валит столько субъективной мифологии, сколько подскажет фантазия. Суворин хотел добра Чехову и много сделал ему добра. Это - факт. Что же касается отрицательных черт, которые иные, с большими натяжками, невесть зачем изыскивают в Чехове, стремясь обобщить их как результат "суворинского влияния", то, повторяю, все это - неудачные опыты политической полемики, а не литературного и идейного исследования. Когда я мысленно проверяю далеко позади оставшиеся образы двух писателей, которым посвящена эта статья, странное и неожиданное получается противоположение. В каких бы моментах ни вспоминался мне Суворин, - этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы, зубы съевший на житейской практике, неугомонный создатель громадных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты, и проч., и проч., - тем не менее он представляется мне в конце концов - и прежде всего, и после всего - типическим русским мечтателем. Даже, пожалуй, прямо-таки Альнаскаром. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло необыкновенное счастье не только строить воздушные замки, очередные планы которых вплывали в его капризную, ищущую, беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял. И в этом-то было его смутное, беспокойное горе, и этим обусловливалось его неустойчивое метание от факта к факту, от взгляда к взгляду, от человека к человеку. Это был человек, сотканный из мечты, - искатель мечтою. Совсем иное Чехов. Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он, великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила наконец его много-думье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы, их же не прейдеши. Суворин хотел многого, но, по существу, не знал, чего он истинно хочет. Когда это желанное истинное вдруг, бывало, ненароком взглянет ему в глаза: вот оно я! - он не верил или полуверил. А то просто пугался и притворялся, будто не верит. Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает, чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его как новый препарат в коллекцию своей атомистической лаборатории впредь до теоретического обобщения. Отсюда - чеховская бесстрашная грусть : основная черта его творчества. Оба они были поразительно способны к наблюдению, но и наблюдение их было столько же различно, как характеры. В Суворине неугомонно билась жилка старого отметчика, охотника за явлением, каждый раз хватавшего факт как нечто новое и часто встречающего его по-новому, совершенно вразрез впечатлению прежней с ним встречи. Он - наблюдатель-субъективист и импрессионист. Чехов - один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдателей-объективистов - шел через факт к закону жизни. Он - великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней, - и смею даже утверждать, - до ступеней, трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об "Экклезиасте". Суворин, умерший на восьмом десятке лет, если бы он прожил еще столько же, все-таки дня не вынес бы без того, чтобы не занести на бумагу хоть несколько строчек непосредственных впечатлений жизни и не вести о них страстного разговора. Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать. И уж, конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в лебединой песне Чехова - "Вишневом саде", а потому, что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последняя осенила Чехова таким мудрым и глубоким провидением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому творцу как подразумеваемые сами собою. К этому периоду жизни Чехова относится его трагическая шутка о повести, из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку: "Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны". Если принять знаменитое Павлово деление рода человеческого как познавательной жизни на два разряда: иудеев, которые чуда ищут, и эллинов, которые ищут мудрости, то Суворин и Чехов распределяются по этим полюсам совершенно твердо. Суворин, с его пылкою жадностью к новому явлению, новому факту, новому лицу, новой книге, весь пламеневший любопытством и смутными, редко самому ему внятными в полной мере ожиданиями, должен быть поставлен, конечно, на первый полюс. Хотя он и не весьма любил евреев (однако совсем не так сердито и убежденно, как повествуют враждебные легенды), но психический импрессионизм сближал его с мечтателями, по Павлу, иудейской категории: ищущими в жизни чуда, которое вот придет откуда-то извне и осветит жизнь. Чехов - весь на эллинском полюсе. Он знает, что чудес нет и не бывает, что о небе в алмазах могут мечтать Соня, Вершинин, Аня с Трофимовым, но не он, ищущий мудрости и находящий ее в ежеминутных печальных откровениях жизни о железнозаконном ее единообразии... Суворин, хотя и воспитанник материалистов, шестидесятник, таил где-то на дне души мистическую жажду идеалистических и религиозных позывов, которых даже конфузился, когда они прорывались заметно для других. Он любил Достоевского и был, по существу, достоевец. Отсюда и его редкостная сантиментальность, с нервическою готовностью расплакаться, как дитя, от разговора, от зрелища, от чтения, от сильной эмоции восторга, жалости или негодования. Чехов, который, как никто другой в русской литературе, и знал, и умел выражать, что человек человеком начинается и кончается, что человек - весь в себе и "du bist doch immer, was du bist", является самым чистым и безуклонным русским реалистом. Сантиментальности в нем не было ни капли, и уж вот-то именно - "суровый славянин, он слез не проливал". Он - антидостоевец. Как тип мыслителя-интеллигента, он тесно примыкает к Базарову. Как бытописатель - к Салтыкову. Как психолог и художник - к Мопассану, закончив и увенчав этим западным поворотом гоголевский период нашей литературы. Суворин - огромное воображение, чутье, инстинкт, эмоция и "человек волны". Прежде всего - эхо. Чехов - великое знание, воля, система и сила. Прежде всего - голос. Александр Валентинович Амфитеатров (1862 - 1938) - популярный русский журналист, фельетонист, прозаик, литературный и театральный критик, драматург. Елизавета Алексеевна Шапочка СУВОРИН, БОБОРЫКИН, ГАРШИН - СОВРЕМЕННИКИ ЧЕХОВАИнформационное пространство России XIX в. не столь обширно, как в XXI в. Многие общественные деятели были знакомы лично. Некоторые литераторы выступали и как литературные критики. Имена А. С. Суворина, П. Д. Боборыкина и А. П. Чехова часто попадали в переписку, дневники современников, в литературные обзоры. К примеру, две выписки из дневника хорошего знакомого Чехова И. Л. Леонтьева-Щеглова: «Боборыкин и Чехов - две крайности представителя нашей общественной расшатанности: первого при всяком появлении зря ругают на чем свет, а второго превозносят за всякий водевильный пустяк» (1 октября 1889 г.); «В одном маленьком рассказе Чехова больше чуется Россия, чем во всех романах Боборыкина» (август 1891 г.) . Младший брат писателя Чехов «Михаил Павлович ценил сочинения брата за язык, приравнивания к произведениям Тургенева, Боборыкина» . Запись из дневника известного публициста, писателя, издателя, театрального деятеля Алексея Сергеевича Суворина от 14 мая 1896 свидетельствует: «…будто Александр III проездом в Москву, 13 мая 1894 г., на юг, пожелал посмотреть труппу Малого театра. Дали пьесу Боборыкина «С бою». Он остался доволен исполнением, но не пьесою, которую нашел скабрезною» . В конце 1885 г., когда издаваемая Сувориным газета «Новое время» приобрела широкую известность, а его издания и книжные лавки распространились по всей стране, и произошло его знакомство с Чеховым. Их личная переписка длилась 17 лет. В издании Суворина вышли в свет отдельные книги произведений Чехова. Это сборники «В сумерках» (1887), «Рассказы» (1888), «Хмурые люди» (1890), «Пьесы» (1897), некоторые другие. Дружба Чехова и Суворина вызывала у современников противоречивые чувства. Так, Д. С. Мережковский писал: «Суворин и Чехов соединение противоестественное: самое грубое и самое нежное. Пусть в суворинских злых делах Чехов неповинен (Суворин отошел от позиции либерального и даже демократического журналиста к национализму и шовинизму - Е. Ш.), как младенец; но вот чёрт с младенцем связался» . Наш современник, английский славист Дональд Рейфилд, писал, что истинный душевный комфорт Суворин испытывал в кругу друзей, и самая трогательная дружба связывала его с Чеховым, в чьём писательском гении он скоро уверился. Этой привязанности не мешали политические расхождения, «суворинская моральная нечистоплотность», «ревность его сыновей и коллег-газетчиков». Дональд Рейфилд осуществил в России обширные архивные разыскания, что дало ему возможность без обиняков писать о Чехове и о «Короле Лире из Санкт-Петербурга». В первые годы знакомства с Сувориным у Чехова сложилось высокое мнение о нём как об интереснейшем собеседнике. Суворин был знатоком театрального искусства и сам писал пьесы. В письме брату Александру Чехов как-то восклицал, что был поражён приемом, который оказали ему питерцы. Произведения Чехова печатались в «Новом времени», книги Чехова выходили в его издании и печатались в его типографиях. Суворин и Чехов вместе путешествовали по Европе в 1891 и 1894 гг. По замечанию Э. А. Полоцкой, письма Чехова к Суворину - может быть, самые содержательные во всей чеховской переписке. В конце 1890 гг., в эпоху дела Дрейфуса, Суворин показал себя явным сторонником антисемитизма и вообще борьбы со всякими «инородцами». Отношения Суворина и Чехова приняли формальный характер. В канун своего дня рождения в 1896 г. Суворин отмечал в дневнике: «Чехов сегодня говорит: «Мы с Алексеем Сергеевичем умрём в XX столетии». - «Вы - да, но я умру в XIX непременно», сказал я. - «Почем вы знаете?!» - «Совершенно уверен, что в XIX веке. Оно и не трудно отгадать, когда с каждым годом становишься хуже и хуже …» . На деле вышло не так, хотя Чехов был на двадцать шесть лет моложе Суворина. Близкий к Суворину в начале 1900-х гг. Василий Розанов писал о нём: «Помню его, встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро), все браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон… Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребёнка или труп обещающего юноши, безвременно умершего. Суворин никого и ничего не видел. Ни на кого и ни на что не обращал внимания, и только ждал, ждал… хотел, хотел… гроб!» Суворин публиковал на страницах своих изданий разнохарактерные воспоминания о безвременно ушедшем писателе. В своих же трёхстраничных мемуарах «Чехов как человек» Алексей Сергеевич отметил некоторые особенности натуры писателя: «В нём соединялся поэт и человек большого здравого смысла»; «В Чехове было что-то новое, независимое, как будто совсем из другой жизни…»; была в нём «как будто жестокость, но жестокость правоты и твёрдости» . О другом своём современнике - прозаике, драматурге, критике, переводчике и театральном деятеле Петре Дмитриевиче Боборыкине Антон Павлович Чехов отзывался так: «Боборыкин - добросовестный труженик, его романы дают большой материал для изучения эпохи». Петра Дмитриевича можно назвать первой живой пишущей машиной. Знакомство Чехова и Боборыкина состоялось в 1889 году, когда Чехов передал Боборыкину, как заведующему репертуарным отделом в театре Горевой, водевиль «Предложение» Тогда же состоялось их личное знакомство. Известны два письма Боборыкина к Чехову. Письма Чехова к Боборыкину неизвестны. Вл. Немирович-Данченко вспоминал, что «корифей русской литературы, Боборыкин» доставлял себе такое удовольствие: «каждый день непременно читать по одному рассказу Чехова». Сам Боборыкин вспоминал об этом так: «Мне было рекомендовано врачами читать как можно меньше. По утрам, за кофе, в столовой, где я всегда был один за ранним временем, я положил себе: прочитывать по одному рассказу [Чехова], никак не больше. Но меня они стали так «забирать», что я охотно преступил эту порцию и читал по два и больше рассказов» . Боборыкин писал об этом и в письме к Чехову 5 июля 1889 г.: «…рискуя утомить единственный зоркий для работы глаз, с трудом отрывался от них: это заменит Вам жалкие излишние любезности» . Боборыкин оставил воспоминания о Чехове. Они хранятся в РГАЛИ и, вероятно, не опубликованы. Боборыкин с молодых лет много жил за границей. 12 июля 1908 г. он присутствовал на открытии первого памятника Чехову в парке Баденвейлера. Более того, после панихиды Пётр Дмитриевич Боборыкин, наряду с профессором Веселовским и режиссёром Станиславским, говорил небольшое слово о «поэте безвременья». Ещё один современник Чехова - педагог, литератор, критик, общественный деятель, издатель Евгений Михайлович Гаршин (1860-1931) - тесно связан с нашим краем. Гаршин окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета в 1884 г. и преподавал русскую словесность в одной из Санкт-Петербургских гимназий. Его статьи и очерки охотно помещали журналы «Исторический вестник», «Русское богатство», «Русская школа», «Звезда», Вестник изящных искусств, а также газеты «Голос», «Биржевые ведомости», другие издания. Он автор книг «Новгородские древности», «Общественное и воспитательное значение археологии», «Критические опыты», «Русская литература XIX века» и некоторых других. Известны его воспоминания о брате Всеволоде Михайловиче: «В. М. Гаршин. Воспоминания», «Литературный дебют Всеволода Гаршина», «Как писался Рядовой Иванов». Молодой учёный Р. В. Яровой (Саратов) причисляет Е. Гаршина к числу несправедливо забытых общественно-литературных деятелей России конца XIX-начала XX века. Он также представил его как литератора широкого профиля, талантливого критика, педагога и популяризатора науки широко известного среди своих современников. Чехова и Гаршина не связывало личное знакомство, также не отмечена их переписка. Однако в своих «Литературных беседах» Гаршин неоднократно критически отзывался о творчестве Чехова. «Степь» скучна и «требует от читателя чрезмерного напряжения, чтобы стало охоты воспринимать все прелести художественного изложения автора этого произведения», - писал Гаршин в статье «Литературные беседы». Эта оценка крайне противоположна отзывам Всеволода Гаршина, который незадолго до своей гибели поделился со своим другом В. А. Фаусеком: «Я пришел сообщить тебе замечательную новость. в России появился новый первоклассный писатель у меня словно нарыв прорвался, и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал» . В ноябре 1888 г. Чехова затронула очередная критика Е. Гаршина. В письме к поэту Плещееву Чехов спрашивал: «Читали ли Вы наглую статью Евгения Гаршина в «Дне»? Мне прислал её один благодетель. Если не читали, то прочтите. Вы оцените всю искренность этого злополучного Евгения, когда вспомните, как он раньше ругал меня. Подобные статьи тем отвратительны, что они похожи на собачий лай. И на кого лает этот Евгений? На свободу творчества, убеждения, лиц… Нужно дуть в рутину и в шаблон, строго держаться казёнщины, а едва журнал или писатель позволит себе проявить хоть на пустяке свою свободу, как поднимается лай» . Казалось, пути А. П. Чехова и Е. М. Гаршина несоединимы. Однако они сошлись в начале 1900-х годов в Таганроге, куда Гаршин переехал с семьёй. С 1901 г. он был директором коммерческого училища и жил при нём. 5 ноября 1903 г. Чехов передал поклон Гаршину в ответ на сообщение в письме двоюродного брата Владимира Митрофановича Чехова из Таганрога о том, что Гаршин интересовался Чеховым: «В воскресной школе несколько раз встречался с Гаршиным. Всякий раз он спрашивал о тебе, твоём здоровье, и поручил передать тебе его поклон». Не прошло и года, как Чехова не стало. Через две недели после смерти писателя-земляка таганрогская Городская Дума проводила чрезвычайное заседание. Собравшиеся поручили Городской Управе составить программу увековечивания памяти писателя. Вскоре начались хлопоты по присвоении библиотеки имени Чехова, хлопоты по изысканию средств для постройки нового здания, о переименовании Елизаветинской улицы в Чеховскую. Горячо обсуждался вопрос о создании кружка, который бы соединил желающих «внести свой вклад в увековечивание памяти земляка». В деле создания кружка объединили усилия директор коммерческого училища Е. М. Гаршин, директор мужской гимназии А. Н. Гусаковский, инспектор той же гимназии Е. Ф. Лонткевич, член городской управы врач П. Ф. Иорданов. 30 октября 1904 года газета А. С. Суворина «Новое время» писала: «В Таганроге нарождается «Чеховский кружок» по инициативе директора коммерческого училища Е. М. Гаршина. Цель кружка - собрать «живую старину» об А. П. Чехове. Председателем избрали статского советника Е. М. Гаршина». В августе 1905 г. «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф» сообщили об утверждении Устава кружка, на подготовку которого ушло два месяца. В состав кружка вошли большей частью лично знавшие Чехова. Это соученик по гимназии, товарищ детства, преподаватель коммерческого училища А. Дросси, доктора И. Шамкович, Г. Тарабрин, даровитый журналист А. Тараховский, а также родственники - О. Л. Книппер-Чехова, М. П. Чехова, братья Александр, Иван и Михаил Чеховы. Всего в 1909 году кружок насчитывал более 30 членов. В фондах Таганрогского Государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника хранятся документы о создании и деятельности Чеховского кружка. Кружок оказывал научную и финансовую помощь библиотеке и музею имени А. П. Чехова, изучал творчество Чехова, местные архивы, устраивал вечера, готовил рефераты, выступал с лекциями... Особенно плодотворной была деятельность кружка в год 50-летия со дня рождения А. П. Чехова. Гаршину принадлежит идея устроить в доме рождения писателя мемориальный музей. Задуманное свершилось значительно позже, но мемориальная доска была установлена в 1910 г. Предметами «живой старины» стали фотографии знаменитых современников с автографами, переписка Чехова, иллюстрации к его сочинениям, печатные отзывы о нём и его произведениях, об исполнении на сцене его пьес. С отъездом в 1911 г. Е. М. Гаршина из Таганрога на новое место работы в Симферополь (предположительно, это был перевод по службе) и с открытием в 1914 г. Чеховской комнаты при городской библиотеке деятельность Чеховского кружка изменилась и во многом потеряла своё значение. Почему же Гаршин, критиковавший произведения Чехова при его жизни, стал инициатором создания кружка? Евгений Михайлович писал в Приазовском крае»: «Его ещё нет, но он будет, этот чеховский кружок в Таганроге. Собирание живых, непосредственных воспоминаний о Чехове - это первая задача кружка его имени. Вторая задача - собрать и собирать впредь всё, что где-либо говорится о нём в печати. Общими силами и без всякого труда для каждого в отдельности, можно сделать чудеса в этом направлении. Третьей задачей чеховского кружка должно быть распространение истинного понимания этого замечательного писателя, всеми признанного, но недостаточно понятого. Для разрешения этой задачи надо, с одной стороны, изучать Антона Чехова, с другой - популяризировать его . Масштаб личности и творчества А. П. Чехова, любовь к нему земляков не могли не повлиять на Е. М. Гаршина и не превратить его в ревностного почитателя. ЛИТЕРАТУРА
Год примерно тому назад, мониторя просторы Интернета, не появилось ли чего новенького о жизни и творчестве нашего великого земляка Алексея Суворина, судьба которого меня захватила еще в 90-е годы прошлого века, я натолкнулся на книгу кандидата исторических наук Любови Петровны Макашиной «Вокруг А.С.Суворина. Опыт литературно-политической биографии», вышедшей в Екатеринбурге в 1999 году. С помощью коллег из вуза, где она сейчас преподает, узнал её адрес. Предложил обмен книгами. Послал ей вышедшие в Воронеже с моим участием «Телохранитель России. Воспоминания современников об А. С. Суворине» и сборник произведений Суворина с предисловием Марины Ганичевой «Очерки картинки». А вскоре и она прислала свою книгу. В сопроводительном письме Любовь Петровна написала: «Когда я увидела дату издания «Телохранитель России», я восторженно ахнула: мы в одно время интересовались и занимались одним делом - восстановлением светлой памяти А.С.Суворина. Какая жалость, что мы не знали друг друга в этот период! Надеюсь, что Ваши книги стали пособием для студентов Воронежского университета. В УРГУ имя Суворина по-прежнему под запретом». Я не стал разочаровывать Любовь Петровну на счет ВГУ. Помнится, совсем недавно учитель жизни целого поколения воронежских журналистов Лев Ефремович Кройчик уверял, что Чехов отвернулся от Суворина после дела Дрейфуса. И якобы антисемитизм Суворина стал причиной разрыва. В отличие от Макашиной, у Кройчика, как и у его предшественника Динерштейна, не было ни желания, ни стимула разобраться в сути отношений двух великих людей России. Боюсь, что задача у них одна - всячески тормозить процесс актуализации творческого наследия великого русского журналиста, издателя, общественного деятеля и политического мыслителя. Но не им, а новому поколению думающих молодых людей, в том числе журналистам, адресуются эта публикация одной из глав из книги Л. Макашиной. Написанная в 1999 году, книга читается на одном дыхании и заставляет о многом задуматься. А.С.Суворин и А.П.Чехов 1. ВЗГЛЯДЫ НА ЖУРНАЛИСТИКУ Отношения между Чеховым и А.С. Сувориным - это не обывательское знакомство и даже не простая дружба двух писателей - это уже в некотором роде, «теория рус-ской литературы». Суворин - важная страница в жизни Чехова. Чехов - светлая страница в биографии Суворина. А.Амфитеатров, Cave di Lavogna, 25.09.1909. Дружба Чехова и Суворина начиналась и разворачива-лась в период творческого подъема как одного так и друго-го, - во второй половине восьмидесятых годов прошлого века. «Новое время» уже давно зарекомендовало себя как широко информированная, влиятельная в правительствен-ных и общественных кругах газета. Основной костяк авто-ров и сотрудников газеты складывался в тот же период - А.Амфитеатров, Иг. Потапенко, А.Столыпин, Н.Глинка, Н.Энгельгардт, В.Буренин. Суворин в этот период был одер-жим техническим перевооружением типографии и всего из-дательского дела. Обустраивалась типографская школа при издательстве. Известный театральный критик и драматург Суворин готовился претворить в жизнь планы о собствен-ном театре - с собственной антрепризой и им самим подо-бранным репертуаром. Чехов в этот период известен как ав-тор смешных водевилей и юмористических рассказов - пло-довитый, подающий надежды писатель. И тот, и другой сто-яли на пороге новой фазы своего творчества. Из всех предыдущих лет год 1886 стал для Чехова самым плодотворным. Было написано и опубликовано в юмористи-ческом журнале «Осколки» Лейкина более ста рассказов. Но стиль сотрудничества с Лейкиным, его непременное условие «пошутить в сто строк» - стало сковывать входящего в новую фазу творчества Чехова. Он еще не знал, какую, но - новую. Сотрудничество с «Петербургской газетой» Гейдебурова не-сколько больше отвечало духу требований Чехова, однако и эта газета сковывала автора жесткими требованиями сроков сдачи материала в газету. Писатель хотел еще поработать над стилем, образами, а редакция требовала: «В номер!». По-дру-гому стали складываться отношения Чехова с «Новым време-нем» и Сувориным. Они познакомились в апреле 1886 года. Суворин, очаро-ванный человеческим обаянием Чехова, предложил сотрудни-чество без всяких условий. Интуиция издателя не подвела, впро-чем, как всегда. За два месяца Чехов написал и опубликовал в «Новом времени» больше, чем связанный контрактными обя-зательствами. Это были лучшие рассказы «раннего» Чехова: «Враги», «Панихида», «Агафья», «Кошмар», «Святая ночь»... Результат был неожидан для самого автора: «Пятью рассказа-ми, помещенными в «Новом времени», я поднял в Питере пе-реполох, от которого угорел, как от чада». Первый рассказ был «Панихида». За него Чехов получил гонорар 75 рублей, ровно столько, сколько Лейкин платил в «Осколках» за месяц, за четыре рассказа. Чехов боялся, что далее условия работы переменятся, и писал об этом Суворину: «Я радуюсь, что условиями моего сотрудничества вы не поставили сроч-ность моей работы. Где срочность - там спешка и ощущение тяжести на шее (...). Назначенного вами гонорара для меня впол-не достаточно» (письмо от 21 февраля 1886 г.). Спустя не-которое время Суворин предложил Чехову собрать опублико-ванные в субботних приложениях «Нового времени» рассказы и издать их отдельной книжкой. К марту таких рассказов на-бралось 13, к ним Чехов добавил три рассказа, опубликован-ные в «Петербургской газете» и назвал свою первую книжку «В сумерках». Спустя два года книжка получила высшую для русского беллетриста награду - ежегодную Пушкинскую пре-мию. Благодаря публикациям в «Новом времени» писатель был замечен серьезной критикой из толстых журналов, не обращав-шей внимание на легковесное чтиво развлекательных бульвар-ных журналов «Будильник» и «Осколки». Литературный обозреватель «Нового времени» В.Буренин прямо писал об этом: «Господина Чехова заметили заметили...(...) А ведь и прежде можно было заметить: он давал под разными псевдонимами такие же талантливые и живые вещи, какие дает и теперь. Причина, заставившая и заставляющая до сих пор критику «толстых журналов» игнорировать талант молодого беллетриста, заклю-чимся, кажется, в том, что произведения Чехова вообще чуж-ды всяких приходско-журнальных тенденций и в большинстве обнаруживают вполне свободное отношение автора к делу ис-кусства, в большинстве руководствуются только одним направ-лением, тем, какого требует художественная правда» (Новое прими, 1887, 25 сентября). Первая книга Чехова «В сумерках» выдержала 12 изда-ний за период 1887-89 годов. Вне всякого сомнения, кроме зас-луги автора в этом есть и заслуга издательства «Новое время». Впервые в жизни Чехов почувствовал себя обласканным, обожаемым, этаким баловнем судьбы. У него стало проходить чувство неудовлетворенности от спешки и неотделанности произведений, впервые, благодаря Суворину, он испытал удо-вольствие от работы со словом. Лейтмотивом следующего года стала работа над первым крупным по форме произведением - повестью «Степь». Полу-ченный от Суворина гонорар позволил на время забыть о зара-ботке на хлеб насущный и сосредоточиться на большом про-изведении. Повесть была отдана для публикации в журнал «Северный вестник». Первым рецензентом повести стал В. Буренин из «Нового времени». В.Буренин увидел в Чехове про-должателя русской литературной традиции, в описаниях при-роды Чехов соперничает, по мнению рецензента, с Тургеневым. Чехову был присвоен титул - «самый выдающийся моло-дой литератор современности». Буренин открыл полемику о художественном методе Чехова. Имя Чехова стало модным. А писатель, наперекор моде, задумал испробовать себя в доку-ментальном жанре. Интерес Чехова к Сахалину был вызван двумя фактора-ми. Во-первых, в Москве намечалось проведение международ-ного симпозиума специалистов-тюрьмоведов и официальная печать обсуждала это событие. Другим поводом явилась хо-дившая в тайных списках рукопись американского журналис-та Ж. Кеннана о состоянии сибирских тюрем в России. Ее чте-ние, а не только перепечатка, были запрещены специальным цензурным указом. Многие русские интеллигенты, прочитав-шие рукописный список, желали бы составить собственное мнение об обсуждаемом предмете. Но не все смогли. А.П.Че-хову и В.М.Дорошевичу это удалось. Предпринятое Чеховым путешествие вряд ли бы удалось без материальной и организационной поддержки Суворина. Судя по переписке 1889-90 годов, Суворин вдохновлял писате-ля, организовывал ему теплые приемы интеллигенции и адми-нистрации городов, где писатель останавливался, высылай деньги на расходы. Благодаря авторитету «Нового времени», Чехов, как корреспондент газеты, был допущен в закрытые для общественного мнения места на острове Сахалин. Разумеется, авторитет таланта Чехова открывал ему многие двери, но только не епархии министерства внутренних дел. Талантов в России много, но когда и кто же из чиновников ценил это? Чехов при-знавал в письмах и немногих дневниковых записях, что авто-ритет газеты помогал ему в работе. Но прежде чем решиться на такую ответственную исследовательскую и публицистическую деятельность, Чехов опро-бовал себя в качестве газетного «передовика». Известно не-сколько его небольших статей в газете «Новое время». Чехов был недоволен своим газетным опытом и первоначально не захотел включить статьи в собрание сочинений. Публицисти-ческим дебютом стала статья «Московские лицемеры» (Новое время, 1888, 9 окт.). В сопроводительном письме Суворину Чехов писал: «Я, Алексей Сергеевич, осерчал и попробовал нацарапать статейку для первой страницы. Не сгодится ли?»(письмо от 7 окт. 1888 г.). После опубликования констатировал: «Рад, что моя передовая сгодилась» (письмо от 10 окт.). «Ста-тейка» была посвящена решению московской думы, отменив-шей свое же решение о запрете торговли по воскресным дням. Автор издевался над купцами, вроде Ланина, который говорил на заседаниях Думы, что поставит за прилавок детей, жену, и освободит наемных приказчиков и будет торговать с одной лишь целью - пополнить городскую казну. Материал Чехова, видимо, задел за живое своего адресата. Купец и фабрикант.Линии, издающий к тому же свою газету «Русский курьер», поместил в двух номерах ответный материал с характер-ным заголовком «Облыжные публицисты» (11,12 окт.). Выступление «Нового времени» было названо неприличным. Но зато газета «Новости дня» одобрила статью Чехова, а закон московской Думы назвала «специальной московской глупостью» Резонанс от выступления Чехова был приличный, и в конце октября московская дума вновь пересмотрела свое ре-шение, но уже в пользу приказчиков. Лучшие журналистские качества проявил Чехов в своей передовице: оперативность, злободневность, действенность. Заседание думы состоялось 4-5 октября. Решение о запрете торговли вынесено 7 октября. В этот же день отослан материал в газету, опубликован - 9, полемика разразилась в прессе 10- 15 октября, а 29 уже отменено старое и принято новое реше-ние Думой. О приказчиках сочувственно писать было не принято. Но кто же, как не Чехов, сын приказчика, мог лучше зас-тупиться за это городское сословие? Материал имел благоприятный резонанс, и какой бы журналист не гордился бы таким попаданием в цель? Только не Чехов. Почему Чехов называл этот свой материал публицисти-ческим дебютом? Разве в «Осколках» под рубрикой «Осколки московской жизни (1883-85) он не комментировал подобные события? Среди 51 «осколка» нечто подобное по проблемати-ке нашлось. Но не по тону, не по уровню авторского осмысле-ния, ярко выраженной позиции обличителя и защитника. В «Осколках» ерничал, вышучивал, а в «Новом времени» писал серьезно и эмоционально: «Не лицемерие ли защищать торговлю по праздникам, говорить о церкви? Не лицемерие ли, защищая свой хозяйский карман, называть себя приказчиком и говорить как бы от имении приказчиков? Не лицемерие ли пу-гать миллионными убытками или антагонизмом приказчиков и хозяев?». А в «Осколках» интонация - ироническая, ни к кому конкретно не обращенная - так, игра ума, игра слов: «Н.П.Ланину не верили, что он настоящий редактор «Русского курье-ра» и что он умеет писать. Собственно говоря, вопрос об уме-нии Николая Петровича мало мучил публику... Но г. Ланин, че-ловек нервный, мнительный и подозрительный. Ему кажется, что весь мир, начиная с его второстепенных, не посвященных в редакционные тайны сотрудников, тяжелых и малоспособ-ных людей, и кончая солдатом на Сретенской каланче, ядови-то глядят на него, показывают пальцем: не надуешь!» (9 июня 1884 г.). В «Осколках» автор не обращается прямо к Ланину, а в «Новом времени» резко бросает обвинение в лицо: «Уж вои-стину браво! Только бравые и очень «храбрые» люди могут говорить публично и не краснея такой вздор!» В суворинской газете Чехов опубликовал десять публи-цистических статей разного качества. Любопытным примером является статья «Фокусники». Поводом для ее написания яви-лась брошюра К.А. Тимирязева о состоянии московского зоо-логического сада. Тимирязев был сотрудником журнала «Рус-ская мысль» и ряда газет, но не мог убедить редакторов под-держать его в борьбе против московского профессора Богда-нова и выпустил брошюру «Пародия науки» на свои деньги. Чехов прочитал ее случайно, находясь на даче в Бегимове. Сроч-но выехал в Москву, посетил зоосад, пересмотрел Дневники наблюдений зоосада, которые фиксировали действительно па-родийные для ученого журнала факты: кто дразнил зверей, кто сорвал цветов, кто поругался с билитершей... Вонь, грязь, го-лодные звери и отсутствие ученых-зоологов. Цитаты из бро-шюры академика-физиолога, касающиеся научных аспектов, Чехов дополнил яркими личными наблюдениями. Полнота кар-тины получилась убийственная! Но результат от публицисти-ческого выступления - противоположный ожидаемому. Льсти-вые коллеги Богданова, в чьем ведении был зоосад, на очеред-ном академическом заседании уверили его в полном своем не-согласии с газетой, лабораторию, вместо того, чтобы улучшить, закрыли совсем, ученого Тимирязева уволили из Петровской академии. Опыта борьбы с корпоративностью у Чехова не было. Писательский опыт для этого не годился. Публицистике Чехова свойственны лаконичные, но емкие обобщения или замечания по важным вопросам российской жизни. Обычно Чехов-новеллист, рассказчик, драматург от сво-его имени этого не делал. Несколько примеров обличений. О лени: «В наше больное время, когда европейскими обществами обуяла лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной вза-имной комбинации царят нелюбовь к жизни, страх смерти, ког-да лучшие Люди сидят, сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны как солнце». О взяточничестве, нищенстве, незаслу-женных наградах: «...русский человек относится одинаково бес-печно как к чужой, так и к своей собственности: он зря берет и в то же время зря дает. Уличное нищенство - это только маленькая частность большого общего. Нужно бороться не с ним, ас про-изводящею причиною, когда общество во всех своих слоях сверху донизу, научится уважать чужой труд и чужую копейку, нищенство уличное, домашнее и всякое другое исчезает само собой» (ст. «Наше нищенство», 1888,4 дек.). О русской жизни: «Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер 1 ООО-пудового камня. В Западной Европе люди пропадают оттого, что жить душно, а у нас оттого, что жить просторно; простора так много, что маленькому чело-веку нет сил ориентироваться» (письмо к Григоровичу, 1888, 5 февр.) Или: «На Руси не редкость, что сапоги тачает пиро-жник, а пироги печет сапожник. Ведь случалось же у нас, что учебными округами управляли врачи и бывшие прокуроры, а в окружных судах председательствовали естественники и бота-нику преподавали словесники» (ст. «Фокусники», 1891,9 окт.). Определенную часть вины за то, что «маленькому чело-веку нет сил ориентироваться», А.П.Чехов возлагал на прессу. «Наши газеты, - писал он, - разделяются на два лагеря - одни из них пугают публику передовыми статьями, другие - романа-ми... Страшна фабула, страшны лица, страшна логика и син-таксис, но знание жизни еще страшней». Недобросовестность и претенциозность бездарного буль-варного журналиста показана Чеховым в рассказе «Сон ре-портера». Психологические черты, присущие герою рассказа, подмеченные писателем, характерны для людей подобного типа всех времен и народов. Неопрятный, полуголодный, прими-тивный, готовый пресмыкаться за копейку перед кем-угодно и когда-угодно, репортеришко проспал званый ужин, о котором должен был написать отчет. Он противен в своих мечтаниях об этом ужине, но еще более мерзок в своей лени и професси-ональной недобросовестности, когда принес редактору материал со своими впечатлениями о рауте. И безумно гадок и сме-шон, когда обижается на реплику редактора, что работа могла быть и лучше, ибо обижается он на то, что в нем не заметили «истинный талант». Портрет своего «героя» Чехов создал не описательно, а лексикой персонажа, она убога и вульгарна. Профессии газетчика и прессе Чехов посвятил немало строк. Наиболее известными стали «Мысли читателя газет и журналов», «Прощение» и др. Лестных слов в адрес журнали-ста у Чехова вряд ли найдешь. Это можно объяснить не только особенностью миросозерцания юмориста, но и состоянием газетно-журнального мира в период бурной капитализации прессы. Чехов очень долго смотрел на журналистику только как на способ заработать на жизнь. В «лейкинский» период его девизом было «развлекай!», в суворинский стало - «развле-кая, поучай!». Предназначение журналистики по Суворину было иным. Как известно, Суворин понимал прессу как выразительницу национального самосознания, как источник формирования массового поведения людей, как буфер между властью и мас-сами. Имея разные взгляды на прессу в начале дружбы, они и через 15 лет близких личных отношений смотрели на журналистику по-разному, но позиции того и другого смягчились, видоизменились под давлением обстоятельств и, конечно, вза-имного влияния. В феврале 1888 года Чехов окончательно решил ограни-чить свое сотрудничество с газетами только «Новым време-нам». Врагу Александру так прямо и написал: «Буду изредка пописывать Суворину, а остальное, вероятно, похерю». Это решение еще более укрепилось после отпуска, проведенного Чеховым на даче Суворина в Феодосии. Оба потом вспоминали, что они с утра до ночи говорили, говорили, говорили, не могли «насытиться» друг другом. Делясь своими летними впечатлениями с братом, Чехов описывал свое состояние как оча-рование глубоким человеком, а себя сравнивал с «говориль-ной машиной». Вот тогда, по-видимому, и появился у Чехова «Зуд» попробовать себя в публицистике, видимо, он проникся суворинскими идеями «воспитания общества в определенном патриотическом духе». Более того, Чехов советовал брату Алек-сандру, выпускнику математического факультета Московско-го университета, попробовать сотрудничать с Сувориным. Из-датель обещал Александру зарплату в 6 тысяч рублей в год, по 500 рублей ежемесячно, то есть на 150 рублей больше, чем маститому, известному журналисту Василию Розанову... Ан-тон писал Александру в шутливой форме, но оценка газеты была серьезная: «В добросовестных, чверезых, самостоятель-но мыслящих работниках весьма нуждаются. (...) Чем раньше ты покажешь свой взгляд, каков бы он ни был, чем прямее и смелее будешь высказываться, тем ближе будешь к настоящему делу и к 6 тысячам жалованья» (Письмо от 11 сент. 1888 г). Александр внял совету брата и был принят на зарплату мастера, сам будучи учеником подмастерья. Конечно, это был шаг Суворина к завоеванию Антона, а брат лишь был ступе-нью на этом пути. Суворин умел «делать журналистов под себя», как об этом красноречиво и много рассказывал сотрудник «Нового време-ни» Снесарев в книге «Миражи «Нового времени» и «соблазненные младенцы». В случае с братьями Чеховыми его опыт дал сбой. Талант одного из них оказался сильнее суворинских способностей, бесталанность другого не стоила того, чтобы работать с ним по-особому. Однажды Суворин вызвал к себе Александра и попросил придумать себе ряд псевдонимов, что-бы...не компрометировать имя талантливого беллетриста. Ос-корбленный Александр срочно пожаловался брату. Тот легко-мысленно заявил, что не заботится о бессмертии фамилии и ее непорочной репутации, пусть как хочет, так и подписывается. Александр все же послушался издателя, и в скором времени на страницах газеты появилась новая фамилия - А.Седой, псев-доним Александра Чехова. Выдающегося публициста из него не получилось, «потери» издателя, выплачивающего повышен-ную зарплату за заурядную работу восполнял, видимо, Антон. Вот тогда в газете и появились передовицы Антона Павловича Чехова: «Московские лицемеры», «Наше нищенство», «Н.М. Пржевальский» и др. Суворин предложил Антону Павловичу стать по-стоянным сотрудником. Но тот категорически отказался: «В ка-честве хорошего знакомого я буду вертеться при газете, (...) но встать в газете прочно не решусь ни за какие тысячи, хоть вы меня зарежьте» (письмо Суворину, авг. 1888 г.). В последующие годы 1890-1893 гг. Чехов еще несколько раз обращался к документальным, небеллетристическим жан-рам в газете. Но всякий раз оставался собой недоволен, о чем красноречиво говорит его переписка с друзьями. Так в письме к драматургу и издателю В.А.Тихонову он жаловался: «Газет-ный язык мне никогда не давался» (7 марта 1889 г.). В письме Суворину: «Я - не журналист!» (24 февраля 1893 г.). Коллеге В.Н. Аргутинскому-Долгорукову: «Пишу я только беллетрис-тику, все же остальное - чуждо или недоступно мне» (20 мая 1899 г.). В письме к А.М.Горькому: «Я не умею писать ничего, кроме беллетристики» (15 февраля 1900 г.). Подготавливая тексты для собрания сочинений, Чехов в первые тома включил свои публикации из бульварных юмори-стических журналов, не стыдясь остроумных пародий на рек-ламу в 1-2 строчки, пародий на заголовки. Любовно собраны вместе шуточные объявления, подписи под карикатурами, разумеется, более крупные формы - язвительные комментарии событий московской жизни под рубрикой «Осколки московской жизни». Основа «осколков» - документальная, казалось бы, материалы этого жанра вполне могли бы отвечать требованиям сатирического жанра «фельетон», за маленьким вычетом: автор не делал никаких социально-политических выводов из юмористической или сатирической ситуации. Он никого в них не поучал. И это, видимо, было принципиально для зрелого Чехова. Когда он начал систематизировать свое творчество, он отдельно отложил публицистику - и раннюю и последующую, 90-x годов, - в сторону, как бы сомневаясь, а не стоит ли это считать творчеством. Тем не менее, потом статьи из «Нового времени», путевые заметки «По Сибири» и очерки «Остров Сахалин» заняли целый том собраний сочинений и, разумеет-ся, являются неотъемлемой частью чеховского наследия, ори-гинальной стороной его дарования и в то же время докумен-тальными свидетельствами понимания своей эпохи автором. Как ни скуп Чехов на авторские оценки, как ни закамуфлирована в них авторская позиция, они тем не менее есть. Этим и интересен этот цикл работ Чехова. Путевые заметки «По Сибири» вызвали положительный резонанс общественности. О них тепло отозвался художник И.Репин, издатель В.Тихонов, журналист С.Филиппов и др. Их перепечатывали сибирские газеты и комментировали. Но это-го было недостаточно, чтобы сам автор начал обольщаться на свой счет. На рукописной тетрадке в 47 листов, подготовлен-ной для печати, рукой Чехова написано: «В полное собрание не войдет». Что же ущербного нашел в них Чехов? Путе-вые заметки не поднимали общественно-политических тем, как например, заметки Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», они не могли соперничать с этнографическими си-бирскими очерками К. Носилова, они не были разоблачитель-ными как материалы о местах заключения в Сибири Ж. Кенна- на. Да, не были, но ведь Чехов и не ставил себе такой задачи. По всей видимости, дело в другом. Щепетильный во всем, пи-сатель не мог простить себе обычный газетный прием, когда материал, написанный в один прием, делится на части и печа-тается частями как последовательные репортерские заметки с места события по ходу дела. Все девять очерков написаны в три приема - в Томске, Иркутске, Благовещенске, а подавались как письма с пути: Екатеринбург, Тюмень, Омск, Томск, Крас-ноярск, Иркутск, Благовещенск. Главное, что занимает внимание писателя - занимает и потрясает до глубины души - природа, такая не сходная со среднерусской, малороссийской и крым-ской, привычной для южанина Чехова. Природа-стихия, с ко-торой человек принужден бороться за существование, это от-нимает все физические и духовные силы, не оставляя их на культурные потребности. Письма родным с дороги более рас-кованы, содержательны и разноплановы, чем газетные публи-кации. По всей видимости, Чехов понимал, что эти материалы являются его визитной карточкой и пропуском в ад - на Саха-лин. Малейшая неосторожность - и он мог быть заподозрен в нелояльности и, следовательно, не допущен на остров. Несо-ответствие виденного написанному и раздражало, по всей ви-димости, писателя больше всего. Отправляясь в дорогу, Чехов шутил: «Еду делать двугри-венные». Суворин посулил платить 20 копеек за строку, неслы-ханно большая плата по столичным масштабам, но какая ма-лая компенсация всяческих затрат, перенесенных писателем в пути. Суворин желал бы за эти деньги получать от Чехова пуб-лицистические статьи с яркой авторской позицией. Но Чехов был непреклонен: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, гово-рил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это уже и без меня - известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только какие они есть (...). Конечно, было бы приятно сочетать художественное с проповедью, но для меня лично это - чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техни-ки» (письмо от 1 апреля 1889 г.). Из этой пространной цитаты, выдержанной в нехарактерной для мягкого Чехова твердой интонации, видно, что он намеревался подходить к описанию фактов со стороны художественной и объективистской, но от-нюдь не обличительной, не тенденциозной. Какие же жанры могли соответствовать намерению Чехова? Очерка? Репорта-жа? Письма с дороги? Что угодно, только не «передовая» ста-тья, какой ждал от Чехова Суворин. Серьезно приготовив себя к впечатлениям о Сахалине (прочитал научную, публицисти-ческую и официальную информацию), он относился к тысяче-километровым прогонам по Сибири как к прелюдии, пред-ыстории, прологу к главному путешествию. Он горел жела-нием своими глазами увидеть то, о чем был начитан и наслы-шан. Может быть поэтому целый месяц вплоть до Томска не отравлял в газету обещанных корреспонденций. Он как бы боялся «растрясти» впечатления, силы для главного берег. 11исьма с дороги родным наполнены меланхолией от того, что медленно движется к вожделенной мечте. «Мне не весело и не скучно, а так, какая-то студень на душе. Я рад неподвижно сидеть и молчать». (Письмо от 24 апр.1890), - пишет с парохо-да, плывущего в Пермь. Далее: «Проснувшись вчера утром и выглянув в вагонное окно, я почувствовал к природе отвраще-ние» (29 апр. 1890 г.).В Екатеринбурге его негативные впечат-ления еще больше усилились: «Здешние люди внушают при-езжему человеку нечто вроде ужаса». Екатеринбург был последним островком привычной ци-вилизации. Здесь кончалась железная дорога, гостиницы с хо-рошей едой, медицинское обслуживание, развлечения... В Тю-мень Чехов выехал на лошадях. Выпал снег, в начале мая... «От холода не спасали ни шуба, ни двое штанов», - вспоминал Че-хов. Чахоточный и геморроидный, он вкусил все прелести про-селочных дорог, то скованных морозом, то размягших от отте-пели. Если бы он и дальше стал накапливать негативные впе-чатления, его хрупкий организм сломался бы. И рафинирован-ная душа стала искать спасения в поисках положительных эмо-ций. Их дала могучая сибирская природа. Это ничем не было похоже на любимую, только что описанную степь и едва напо-минало скромными березовыми перелесками мелиховские окрестности… Чехов выехал из Москвы 19 апреля, приехал в Томск 15 мая, почти через месяц. Городскую гостиницу воспринял как дар Божий. Размягчился он от бани, от рюмочки перед ужином с белой скатертью, от обожания интеллигентной и купеческой публики, нахлынувшей с визитами. Как он рад был их всех видеть на первых порах! Отогревшись в «цивилизации» шесть дней, Чехов написал первые шесть «путевых заметок» для «Нового времени». Исследователи творчества Чехова относятся к его циклу «По Сибири» несерьезно. Его материалы то называют очерка-ми, то зарисовками, то заметками... Редакция «Нового време-ни» сразу определила их жанр как заметки. С первой же пуб-ликации им была предпослана такая рубрика. При возобнов-лении их в июле 1890 г. газета писала: «Предыдущие шесть заметок напечатаны в нескольких номерах «Нового времени». Сам Чехов, долго размышлявший над формой своих сибирс-ких посланий, писал Суворину и семье: «Уезжая, я обещал Вам (Суворину -JI.M.) присылать Вам путевые заметки» или: «Не боялся быть в своих заметках слишком субъективным (Там же)». В другом письме: «Свои путевые заметки начисто писал в Томске». Однако если посмотреть на первые два материала с точки зрения жанровых особенностей, то их смело можно назвать репортажами. Главное событие репортажей - продвижение весны с запада на восток страны и личные впечатления автора по этому поводу. Люди, встречавшиеся автору, лишь иллюст-рируют это событие. Автор всегда обозначает свое местона-хождение: пароход на Каме в первом материале, местечко в 375 километрах от Тюмени - во втором, в третьем - тракт от Тюмени до Томска, в четвертом - переправа через Иртыш, в пятом - село Красный Яр на Оби. Выбрав позицию бытописателя, автор уклоняется от каких-либо политических и соци-альных оценок. Поводов для этого было достаточно. Уже в первом материале, описывая переселенцев, у него было иску-шение поддаться примеру Гаршина и Успенского и сделать глубокие социально-политические выводы о жизни простого народа, сдвинутого реформами правительства с привычных житейских рельсов. Но Чехов ограничивается двумя фразами: «В глазах уже смирение... И знаю, что будет хуже». Наблюдая арестантский этап, Чехов сочувствует тому, что люди безро-потно переносят холод, грязь, клопов, усталость. И не дает оценки содержания арестованных в России в целом - этому не настало время. Верный художественному осмыслению факта, он описывает свои переживания по поводу увиденного и толь-ко. Лишь в пятом материале Чехов вводит прямые оценки уви-денного, но прибегает к испытанному в русской литературе приему: вводит персонаж, от лица которого и звучат авторс-кие оценки. Позиция некоего Петра Петровича активна, даже агрессивна, он раздражен малоинициативностью здешнего населения. Это как раз те ощущения, о каких пишет Чехов се-мье: «Еде-еду, конца не видать. Скука немилосердная...Народ забитый». Слова эти должны были быть оскорбитель-ны для сибиряков, а столичным читателям, вместе с Чеховым открывшим для себя терра-инкогнита Сибирь, было внове та-кое слышать: «Скучный народ здесь живет, народ темный, бе-сталанный... Из России сюда везут и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди... Сами ничего не умеют, только землю пашут да вольных возят». От характеристики людей автор пере-ходит к характеристике состояния нравственности: «У нас по всей Сибири нет правды. Ежели и была такая, то давно замер-зла».. Герои чеховских материалов - простые люди: извозчики, проводники, ямщики, крестьяне - «народ добрый, славный, но неумный», как он их оценивает. Житье сытное, добротное, мука дешевая, дичи - немерено, водки - вволю. Добротность, осанистость, невозмутимость окружающих людей раздража-ют Чехова, привыкшего к городской суете и мелкой рыночной хитрости. Внимательно вглядываясь в быт сибиряков, он не менее скрупулезно замечает их словообразования, интонации, иную лексическую семантику. Автор с иронией констатирует, что в Сибири о тараканах говорят, что они «ходят», а о проез-жих, что они «бегут». (Вместо: куда, барин, поехал? - куда, барин, бежишь?). С изумлением Чехов отмечает, что сибиряки уж очень забористо ругаются, а дети, подчас, похлеще взрос-лых, однако на это никто внимания не обращает, как будто мат не несет никакой грязной смысловой роли. Чехов грустно выс-казывается по этому поводу: «Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить чело-века во всем, что ему свято, любо и дорого». Из цикла «По Сибири» читатель узнает, что там нет по-мещиков, как в европейской части России, но зато большин-ство населения - зажиточные крестьяне-кулаки. Подробно опи-сан сытный быт крестьян, ухоженность их домов, чистота гор-ниц, убранство домов, богатых перинами, несчетными подуш-ками и расписными покрывалами на кроватях, обычай разри-совывать двери, потолки и наличники окон изнутри. Это - дру-гая народная культура, отличная от средней полосы в России. Удивил Чехова обычай сибиряков пить чай дорогих китайских и индийских сортов. Южанину Чехову непонятен медлитель-ный темперамент сибиряков. Его основательность и любовь к добротности он оценивает, как неумение энергично подстраи-ваться под сиюминутные требования действительности. Чехов-ские заметки порой напоминают заметки Миклухо-Маклая, оказавшегося среди папуасов. С наивным недоумением Чехов отмечает, что на протяжении тысяч километров по Сибири он встречал незапертые дома, не охраняемые коляски, ибо в Си-бири - не крадут. И это несмотря на то, что опасаться можно хотя бы беглых каторжан. Утерянный в дороге кошелек приве-зут на станцию и вернут владельцу. Чехов удивлялся сострада-тельности, с какой относятся в крестьянской семье к слабоум-ному: «Народ добрый, ласковый». Нелестно отозвался Чехов о сибирских женщинах: «Женщина здесь также скучна, как и сибирская погода; она не колоритна, холодна, не умеет оде-ваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: жестка на ощупь». Более того, замечает Чехов, когда появятся в Сибири свои поэты и романисты, «она не будет вдохновлять, возбуждать к высокой ф шсльности, спасать, идти на край света». С «открытием» сибирского человека соперничает в чехов-ским изображении - природа. Она потрясает воображение писателя силой своего проявления. В описании природы он прибегает к прилагательным в превосходной форме и гиперболизиронным образам. Так, например, «От Тюмени до Томска почта воюет с чудовищными разливами рек». «Сибирская природа в сравнении с русской кажется однообразной, бедной, беззвучной; на Вознесенье стоит мороз, а на Троицу идет мокрый снег». «Иртыш не шумит, не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне гробами. Проклятое впечатление. «Наказание этими разливами!» или: «Сибирский тракт - самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем мире». Одной из до-рог - «козульке» Чехов посвятил прямо-таки оду: «Мы на страш-ной «козульке»... Ну, дорога - не дай господи! Жидкая грязь, в которой тонут колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами; из гатей и мостков, утонувших в жидком навозе, ребрами выс-тупают бревна, езда по которым у людей выворачивает душу, а у экипажей ломает оси». «Если бы кто посмотрел на нас со сторо-ны, то сказал бы, что мы не едем, а сходим с ума». Познакомившись с сибирскими реками, Чехов стал снис-ходительнее оценивать среднерусские реки. Так, например, Волгу он теперь называет скромной грустной красавицей. Зато «широкий Енисей» со «страшной» быстротой мчится в «суро-вый» Ледовитый океан. Сибирскую тайгу Чехов называет «зе-леным чудовищем». В конце концов Чехов приходит к выводу: «человек есть царь природы» нигде не звучит так робко и фаль-шиво как здесь». Девятый, последний материал, написан Чеховым на оптимистической ноте. За два с половиной месяца он, наконец, проникся пониманием здешней природы и человека. Раздра-жение уходит, оторопелость отступает. Автор как бы взросле-ет, мудреет на глазах у читателей. Зарисовка о кузнеце написа-на с уважением и удивлением перед мастеровым человеком. В первых репортажах автор рисует забитого, безмозгло-послуш-ного сибиряка, здоровущего человека-механизм без мозгов. В последней зарисовке Чехов любуется артистически владеющим своим ремеслом кузнецом, пишет о талантах сибиряков, уме-ющих не только дело делать, но и сыграть на публику, тонко пошутить. В описаниях Чехова проскальзывает сопричастность с народом, среди которого автор пережил столько испы-таний. Чехов отправлялся в поездку рафинированным горожа-нином, изысканным интеллигентом, а вобрав в себя впечатле-ния пути, пережив столько тягот, он почувствовал себя части-цей народа большого, сильного и спокойного в своем осозна-нии силы и достоинства. «Сила и очарование тайги не в дере-вьях-гигантах и гробовой тишине», а в беспоконечности этих богатств и людей их оберегающих», - приходит к выводу Че-хов. Пожалуй, ради одного этого стоило отправляться в столь дальнюю поездку. Она заставила придти писателя к тем выво-дам, к каким настойчиво Чехова вел Суворин. Поездка в Си-бирь и на Сахалин еще больше сблизила издателя и писателя. 2. СУВОРИН, ЧЕХОВ И ПОЛИТИКА Еще более они сблизились после возвращения Чехова с Сахалина. Они как бы сравнялись жизненным опытом. Судя, но интонации их переписки, Чехов из молодого, жизнерадост-ного, подающего большие надежды таланта стал как бы по-жившим, пострадавшим, много повидавшим и перечувствовав-шим. Суворин сменил покровительственный тон на откровен-но восхищенный и безоглядно влюбленный. Отвечая на это чувство, Чехов тоже неоднократно в разных вариантах повто-ряет мысль: «Вы мне так нужны!». Он предлагал Суворину совместный отдых, встречи, деловые беседы, посещения теат-ров, знакомых... Суворин стал советоваться с Чеховым как с равным или даже более опытным, по поводу издательской по-литики, работы тех или иных сотрудников, событий в стране... Брат Антона Павловича - Александр, уже работавший к тому времени в штате «Нового времени», ревниво наблюдал за разворачивавшейся дружбой двух разновозрастных, но оди-наково талантливых людей. Время от времени он «подсыпал перцу» в их дружбу, то, передавая, то, сочиняя сплетни о ком- нибудь из двоих. Александр страдал алкоголизмом, пытался избавиться от него. Однажды даже собрал денег на аренду па-рохода для алкоголиков - кстати, благодаря кампании, органи-зованной газетой « Новое время». Александр пытался создать «коммуну» алкоголиков на одном из северных островов и с помощью специалистов и трудотерапии лечить пьяниц. На эту тему он написал и издал брошюру, прислал ее Антону. Тот на нее отозвался истинно по-чеховски, написал, что повесил ее в уборную, может, кто оторвет листок и прочтет... Именно Алек-сандру, язвительно высмеивающему дружбу брата с Сувори-ным, Антон Павлович однажды в сердцах написал: «Мое со-трудничество с «Новым временем» не принесло мне как лите-ратору ничего кроме зла». Это была реакция на сплетню, переданную Александром из редакции, где будто бы негодова-ли, что Антон стал занимать на страницах газеты места в два раза больше, чем было до напечатания из номера в номер по-вести «Дуэль», тем самым он, дескать, отнимает чей-то гоно-рар... «Сотрудничество с... не принесло ничего кроме зла»... Эту фразу можно рассматривать как ключевую в теме «Чехов и политика». «Новое время» ставило одной из своих целей про-паганду государственной политики, формирование обществен-ного мнения, поддерживающего эту политику. Вдохновителем реализации целей был Суворин, сформировавшийся как жур-налист и политик в период гласности и реформ Александра II. Это было время, когда по заданию правительства были орга-низованы органы печати, которые провоцировали обществен-ных деятелей и широкие читательские круги высказывать мне-ния, пускай неблагоприятные для правительства, по поводу реформ. Тем самым выяснялось истинное отношение обще-ства к новой политике. Когда правдивая информация была со-брана и выяснились формы влияния на общественное мнение, встала задача обеспечить обстановку благоприятия проведе-ния реформ. Одним из лидеров печати, взявших на себя эту задачу в конце 60-70-х годов прошлого века была газета «Го-лос». Со временем она стала превращаться в свою противопо-ложность - оппозиционную правительству печать. Ее эстафе-ту подхватила газета Суворина «Новое время». Но политика - субстанция эфемерная, быстротечная, вечно меняющаяся, подстраивающаяся под требование време-ни. Что вчера находило поддержку в обществе, сегодня вызы-вает раздражение, недоумение, неприятие... Заниматься поли-тикой - дело неблагодарное для писателя. Исторический опыт дал многочисленные примеры, подтверждающие эту баналь-ную истину. Разве принесло удовольствие или славу внедре-ние в политику Радищеву после публикации «Путешествия из Петербурга в Москву»? Или Пушкину после его исследователь-ской работы по истории пугачевского бунта? Или Достоевско-му после «Записок из мертвого дома» и «Дневника писателя»? Может быть, Толстой стал более уважаем после его статьи «Не могу молчать!»? Нет, нет, нет! То же самое разочарование испытали советские писатели конца XX века: Распутин, Астафь-ев, Белов, Крупин... Разочарование, негодование, сознание соб-ственного бессилия изменить мир и мировоззрение масс. Им внимали как мастерам художественного слова, но стоило им оформить те же мысли, что и в беллетристике, в публицистическую форму и высказать их от себя лично, как непонимание глухой стеной вставало между ними и их недавними почитате-лями. Так было и так, видимо, будет. Каждый из маститых пи-сателей, дожив до определенного возраста и творческой зре-лости, испытывает искус перед желанием активно воздейство-вать на ход общественно-политической жизни современнос-ти, искус перед желанием втравиться в политическую драку. Чехов дважды испытал такой искус. Первый опыт - во время голода 1891 года - принес ему удовлетворение, несмот-ря на колоссальный труд и моральные издержки, полученные в ходе этого опыта. Второе искушение - в 1897-99 годы, время судебных процессов над Дрейфусом. Этот опыт имел негатив-ный характер. Благодаря ему поменялись некоторые ценност-ные ориентации Чехова. Оба факта в жизни Чехова тесно пе-реплетены с политикой в газете «Новое время» и личностью Суворина. Опыт первый. Вернувшийся после Сахалина Чехов ис-пытывал потребность, новую для себя. Он писал Суворину: «Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни... В четырех стенах без природы, без людей, без отечества (и далее, как бы боясь быть заподозренным в высокопарности, как всегда снижает интонацию, вышучивает себя), без здоро-вья и аппетита - это не жизнь»... И случай представился. Уже в августе 1891 г. стало ясно, что земледельческие районы Поволжья урожая не соберут. Два года подряд царила засуха. Живший в Мелихове Чехов воочию видел сожженные солн-цем поля, страх крестьян перед грядущей зимой. Как врач, он знал, что такие катаклизмы сопровождаются эпидемиями хо-леры. Он забил тревогу у себя в земстве, в губернии. Один из земских начальников Егоров, давний знакомый Чеховых, под-держал устремления писателя. «Новое время» и некоторые другие газеты тоже забили тревогу. Правительством были со-зданы комитеты помощи голодающим губерниям. В прессу часто просачивались сведения о том, что государственные и благотворительные деньги далеко не всегда расходуются по назначению. Не надеясь на госпомощь, крестьяне стали про-давать или забивать скот, который нечем было кормить зимой. И это больше всего беспокоило Чехова и Егорова. Они пони-мали, что не толстовскими тарелками супа надо спасать крес-тьян, а перспективой выжить в следующем году. Егоровым и Чеховым была предложена блестящая идея - выкупить у голодающих людей лошадей, передать их на время зимы в аренду другим хозяевам из не пострадавших районов, а весной вер-нуть прежним владельцам. Егоров оказался прекрасным орга-низатором, ему удалось в своем земстве осуществить идею, Чехов зимой несколько раз ездил по деревням, однажды даже чуть не замерз, для покупки и переправки скота. Деньги на покупку лошадей были собраны благодаря пропагандистской кампании «Нового времени». Они поступали в редакцию на имя Чехова. Через газету писатель отчитывался о тратах. Его подчас изумлял авторитет собственного имени. Он писал: «Се-годня мне один старичок принес сто рублей» или « От Бори и Мити (Сувориных - Л.М.) получил по десяти рублей». При-сылали деньги крестьяне, писатели, врачи, военные, даже гим-назистки. От пятаков и гривенников Чехов не отказывался. Борьба с голодом, личные контакты с разными людьми, сопри-частность с жизнью народа и главное - результаты работы, давали удовлетворение. Благодаря газете «Новое время» совре-менники узнавали о даре общественного деятеля Чехова. А писатель узнал, каким организатором может стать газета - орга-низатором, координатором и общественным контролером пуб-личной и государственной деятельности. Весна и лето следующего после голодной зимы - 1892 года, стали, как и предполагал Чехов, временем интенсивной борьбы с эпидемиями холеры. Болезнь захватила как сытый Петербург, так и Москву, среднюю полосу, так и донские сте-пи. В Петербурге было зарегистрировано до 20 случаев заболеваний в неделю, на Дону - до тысячи в день, в Москве и Подмосковье, где жил Чехов, - до 50 заболеваний в неделю. По инициативе писателя его земство было поделено на участки, выделены бараки для больных, побелены, приготовлены ме-дикаменты, фельдшера и... клистиры, как шутил Чехов. В свое ведение как врача он взял 25 деревень, один монастырь, куда его, кстати сказать, долго не хотели пускать, и 4 фабрики. Че-хов по врачебной специальности не эпидемиолог, а психотера-певт, но с чем только не приходится сталкиваться земскому врачу! Во время эпидемии он работал до тех пор, пока ноги держали. Суворин в это время поддерживал его письмами, деньгами. Делая совершенно конкретное, жизненно необходимое людям дело, Чехов изумлялся безнравственной позиции пред-ставителей революционных партий, которые на несчастье на-рода хотели составить свой политический капитал, провоци-ровали народ на бунты, на разграбление помещичьих усадеб, обещали всевозможные блага, если будет разрушена монар-хия, государственный и политический строй России. Чехов, столкнувшись лично с социалистическими агитаторами, назвал их политическую агитацию подлой ложью. Под впечатлением одного такого выступления он написал Суворину: «Будь я по-литиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего». Чехов был недоволен отражением в печати борьбы с го-лодом и холерой. Фрагментарные впечатления выездных кор-респондентов не могли дать полной картины жизни в экстре-мальных условиях. Он ссылался на опыт американской печа-ти, которая имела средства заслать специального корреспон-дента и оплату его организационных акций, действия по до-быванию информации, оплату услуг информаторов, по-ездки в различные места - все, что давало полноту информа-ции и представляло факты и действующих людей во взаимо-связи. Чехов намекал Суворину, чтобы он воспользовался ино-странным опытом, но Суворин отговорился дороговизной та-кого мероприятия. Тогда Чехову ничего не оставалось, как посетовать: «Да, газеты врут, корреспонденты - саврасы, но что делать? Не писать нельзя. Если бы печать молчала, то по-ложение было бы еще ужаснее...» Пережив голод, холеру, Чехов стал размышлять о своем писательском предназначении, отличии журналистского труда от писательского, о влиянии политики как на то, так и другое поприще. Он жаловался Суворину: «Ах, если бы вы знали, как я утомлен, утомлен до напряжения», а в другом письме: «В душу вкралась нерешительность...» Эта усталость была по-рождением не столько физических затрат, сколько душевных. Вспомним, сколько перенес тягот во время сибирского путе-шествия, но в письмах родным он сам с изумлением констати-ровал, что несмотря на холод, бессистемное питание всухомят-ку, отсутствие теплого туалета и горячей ванны, ночевки в слу-чайных домах и постоялых дворах он ни разу не заболел, стоически перенес сахалинские ветры, жару пароходного пу-тешествия через Индийский океан, Средиземное море и толь-ко в Мелихове подхватил простуду. Усталость конца 1892- начала 1893 года есть, по-видимому, результат нервного напря-жения и размышлений на тему о том, может ли российский интеллигент изменить что-либо в русской жизни. По всей видимости, он понял, что «писательской плетью» «государствен-ного обуха не перешибешь» и решает категорически порвать с журналистикой. Чехов начинает работу над «Чайкой»... Ко-роленко в своих воспоминаниях скажет позже, что подлинные духовные драмы Чехова и его воззрения надо изучать по его драматургии. В «Чайке», пожалуй, как в никакой другой пьесе, передана чеховская грусть о тщете интеллигентских мечтаний. В письме Суворину эти размышления сформулированы так: «Вспомните, что писатели, которых мы называем вечны-ми или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же... У одних, смотря по калибру, цели ближайшие — кре-постное право, освобождение родины, политика, красота или просто вино-водка как у Дениса Давыдова; у других цели от-даленные - Бог, загробная жизнь, счастье человечества и т.п. Лучшие из них - реалисты и пишут жизнь такою, какая она ость, но оттого, что каждая строчка пропитана как соком, сознанием цели, вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это... пленяет вас. А мы? Мы (их наследники и современники эпохи капита-лизма. - Л.М.) пишем жизнь такою, какая она есть, а дальше ни тпру- ни ну. Дальше хоть плетьми нас стегайте. У нас нет ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати: поли-тики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привиде-ний не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет, дело не в названии, но сознаться надо, что дело хуже губерна-торского. Было бы опрометчиво от нас ожидать чего-нибудь путного, независимо от того, талантливы мы или нет. Пишем мы маши-нально, только подчиняясь тому давно заведенному порядку, по которому одни служат, другие торгуют, третьи - пишут. Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен настоль-ко чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не покрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни, и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хоро-шие цели и посланы недаром...» (письмо от 25ноября 1892 г). Вот так в иносказательной форме Чехов поставил диаг-ноз российскому обществу постреформенного периода: интел-лигенция ждала от реформ невозможного, каких-то духовных высот, от реформ выиграла буржуазия, средние слои общества. Страна зажила материальными ценностями и лучшие предста-вители общества поняли, что довольствоваться только матери-альным благополучием русское общество не может. Пришло разочарование от реформ, а новая идеология еще не была вы-работана. И Россия стала жить ожиданием чего-то этакого... потребностью в обновлении, в живой струе - это ощущалось в разных слоях общества. Со смертью Александра III концепция государственного управления сменилась. Но общество, по мнению Чехова, все еще было больным. Своими наблюдениями он делился с Су-вориным: «Лихорадочным больным есть не хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: чего-нибудь кис-ленького». Так и мне... И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюб-лены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений». Наблю-дения сделаны как бы врачом-психопатологом, выражены в об-разной художественной форме писателем, а по сути являются выводом политолога: главным итогом времени реформ стало состояние разочарования, депрессии. Потом многие писатели повторят это наблюдение: Мережковский назовет Россию боль-ной свиньей-матушкой, Бердяев увидит страну накануне ко-ренных перемен, Соловьев будет пророчествовать о конце пра-вославной империи России, «третьего Рима»... Чехов, навер-ное, понял это раньше других, но сказал не публично, а в час-тном письме. Разочарование в общенациональной идеологии породи-ло поиск национальных идей, новых политических идеологий. Этот процесс был характерен не только для России, но и для других стран Европы. Далекий от политических интересов Чехов как бы не за-мечал, что Европа «бурлит» противоречиями: в 1890 году ушел в отставку канцлер Германии Бисмарк, жестокий и осмотри-тельный политик, участвующий в формировании европейской политики; во Франции в 1893 году была вскрыта коррупция в правительстве, армия была деморализована; Англия претен-довала на приоритетное владение акциями Панамского кана-ла, и там тоже вскрылись махинации с акциями, в 1898 г. вспых-нул испано-американский конфликт, в 1899 г. - англобурская война... Бурлила Европа, бурлила и Россия... В 1894 году умер Государь Александр III. Революционный террор становился по-пулярным методом политической борьбы. Странно, но ни в Дневнике Чехова, ни в письмах нет отклика на смерть Александра III, на трагедию на Ходынском поле во время корона-ции Николая II. И вот этот человек, бытописатель Антон Чехов, для кото-рого не существовало политики, попадает в 1897-98 годах в самый эпицентр большой политики... Двадцатилетнее правление во Франции республиканцев привело страну к политическому и экономическому кризису. Чиновники правительства, члены парламента, как писала печать, погрязли во взятках, оказались замешанными в махина-циях с панамскими акциями; министерство внутренних дел, поенное министерство были коррумпированы, однако в отчетах парламенту представляли положение дел в своих ведом-ствах как блестящее... Не доверяя правящим верхам, обще-ственность через печать знакомила страну с правдивыми фак-тами. На этом фоне появились органы печати с красноречивы-ми названиями: «Справедливость» («Жюстис»), «Заря» («Орор») и др. Видя неспособность республиканцев справить-ся с кризисом, оживилась монархическая оппозиция. Ее влия-тельные деятели вскрывали замалчиваемые республиканцами факты государственных преступлений... На этом фоне в 1894 году всплыло дело о предательстве и шпионаже капитана Ге-нерального штаба французской армии Альфреда Дрейфуса, выходца из состоятельной еврейской семьи из Эльзаса, той территории, которая была отвоевана у Франции во время Фран-ко-прусской войны 1871 г. Французский контрразведчик в Гер-мании обнаружил список важных секретных государственных документов Франции у одного из чиновников германской раз-ведки. При сличении почерков работников французского ген-штаба подозрение пало на Дрейфуса. Казалось бы, тривиальное дело, каких бывает в подоб-ных департаментах немало. Давно выработалась традиция, регламент ведения подобных дел... В спокойное мирное время все было бы решено именно в рамках сложившегося регламен-та. Но тривиальное «должностное преступление» произошло в момент противоборства «равновеликих» сил, и каждая из них попыталась использовать его для «набирания очков» в свою пользу. Монархические силы поляризовались вокруг аристок-ратии, в армии, на флоте, в юриспруденции, но за 20 лет прав-ления республиканцев у них не сохранилось достаточно бое-вых печатных органов. Сторонники республиканцев, как раз наоборот, обладали мобильной и закаленной в политической борьбе печатью. Известные политики: социалист Жорес, рес-публиканец Клемансо и ряд других сделали свою политичес-кую карьеру благодаря журналистике. Известный журналист, сотрудник газет «Ла Кош», «Фигаро» и многих других Эмиль Золя, более известный как выдающийся французский писатель «натуральной школы» тоже сделал политическую карьеру бла-годаря журналистике - в период и после Французской револю-ции 1870 г. Своими статьями в буржуазной «Ла кош» он создал себе яркую репутацию республиканца, противника Наполеона III и добился себе должности помощника префекта города Экс, куда он бежал, опасаясь резни после Парижской коммуны. А с 1881 по 1894 годы его выбирают членом муниципального со-вета города Медан (недалеко от Парижа) тоже как выдающе-гося борца за республику... Золя, Жорес, Клемансо и ряд менее теперь известных, но тогда достаточно влиятельных политиков-республиканцев, вро-де вице-президента сената Шерер-Кестнера, обеспокоенные успехами монархистов и возможностью реставрации монар-хии, а значит падением республики, сделавшей им карьеру, бросились в драку, которая именовалась «Дело Дрейфуса». После одной из статей Золя - «В защиту евреев» («Фигаро», 16 мая, 1896 г.) в борьбу вступила еще одна сила - еврейский сио-нистский конгресс, который организационно оформился в 1897 г. в Базеле). Один из видных идеологов сионизма Теодор Герцль признавал, что «Дело Дрейфуса» было одним из важных факторов, который активизировал его работу и был главным аргу-ментом аргу-ментом в пропагандистской работе по собиранию нацио-нальных сил и борьбе против монархий. И бедный бытописатель Чехов, оказавшийся осенью 1897 года на лечении в Ницце после приступа кровохарканья, хотел так сразу во всем разобраться? Видит Бог, очень хотел! Он нанял себе учительницу французского языка, чтобы самому читать французские газеты. Отчаявшись что-либо ура-зуметь из противоречивых комментариев газет разных поли-тических направлений, он стал читать только судебные отче-ты о процессе Дрейфуса. Прекрасно понимая, что во француз-ском языке есть такая же многозначность слов, словосочета-ний и идиоматических выражений, как в русском, понимая, что помимо текста есть подтекст, он все же силился понять, что же на самом деле происходит в суде. Он страшно не хотел, чтобы кто-нибудь влиял на выбор его позиции. Он хотел быть объективным и независимым, главное - ни от кого, ни от чьего мнения зависимым... И скоро отчаялся, это было невозможно, нужно было принять чью-либо компетентную сторону. Аргу-менты всех без исключения, были убедительны... Но когда в дело включился Золя, собрат по цеху, такой же вроде бы про-фессионал, как и сам Чехов, человек, чей инструмент тот же - слово, Чехов вздохнул свободно и встал на сторону Золя. Но, вне всякого сомнения, он не знал о выдающейся политической биографии Золя, закаленного журналистской борьбой в раз-ных политических ситуациях. Золя всегда выигрывал. И когда брат Альфреда Дрейфуса - Матье пришел к нему за помощью, Золя был уверен в победе и, самое главное, он знал КАК по-беждать! Чехов читал «Парижские письма» Золя в русском журна-ле «Вестник Европы» , в которых французский писатель знакомил русского читателя не только с новостями литерату-ры и искусства Франции, но и политическими новостями, в удобочитаемой для русской цензуры форме. Много лет Золя состоял в переписке с редактором журнала Стасюлевичем, дру-жил с Тургеневым, имел контакты с писателем Семеновым и другими русскими писателями. Кстати сказать, Золя был и не-плохим коммерсантом. Когда переводы его романов на русский стали значительными («Париж», «Дамское счастье» и др.), он предложил русским писателям ходатайствовать о вступлении в европейскую Литературную конвенцию и легально получать гонорары за свои переводы. Романы Золя имели успех у русского читателя, и редакторы нескольких изданий стреми-лись заручиться сотрудничеством с ним: редактор «Санкт-Пе-тербургских ведомостей» Байбаков, редактор «Отечественных записок» Салтыков-Щедрин, сотрудник журнала «Слово» Боборыкин, не избежал искушения украсить свое издание извес-тным именем и редактор-издатель «Нового времени» Суворин, тогда только еще разворачивающий свое дело. Все без исклю-чения, невзирая на политическую ориентацию их изданий, получили отказ Золя. Ему хватало поля битв и внутри своей страны. Чехов знал Золя как большого и преданного друга рус-ских литераторов, и только! Отношение Чехова к политике чисто интеллигентское: «Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства».. С этой позиции он и стал вникать в «Дело Дрейфуса». 4 декабря 1897 г. он писал литера-тору Соболевскому: «Я целый день читаю газеты, изучаю Дрей-фуса, по-моему Дрейфус не виноват». Это было время, когда в суде рассматривалось не само дело Дрейфуса, а подозрения нового начальника контрразведки генштаба Франции полков-ника Пикара в том, что документы в Германию пересылал не-кий майор граф Эстергази, а не Дрейфус. Это была попытка демократических кругов обвинить аристократов-монархистов в предательстве Родины. И сразу же вмешался «некий третий» - полковник Анри, который якобы «сфабриковал дело еврея». Не успев разобраться с Пикаром, Эстергази, суд переключает-ся на Анри. В стране подымается волна антисемитизма. Кому-то это выгодно! Анри препровождают в тюрьму, на следую-щий день находят его с перерезанным горлом и (удивительное дело!) приходят к выводу, что это -самоубийство (легче, конеч-но, было невозможно лишить себя жизни!). Газеты кипят сен-сациями. Какое-то время спустя к ним добавляется страстный голос Золя. Одна из многочисленных брошюр Золя «Дело Дрей-фуса. Письмо к молодежи» попадает в руки Чехова, в числе другой французской корреспонденции он пересылает ее в Ме-лихово, чтобы позже ознакомиться получше. Известный сио-нистский деятель и журналист Бернар Лазар, нанятый братом Альфреда Дрейфуса Матье, пишет и издает свою брошюру «Правда о деле Дрейфуса». Публицисты придают судебному делу - с точки зрения юриспруденции - малоинтересному делу о должностном преступлении - аспект морально-этический, патриотический, государственный, противопоставляя интере-сы личности и государства, и это понятно, ибо государство в.тот период испытывает трудности, стоит на грани краха. Мо-жет быть, две силы - демократическая и монархическая как- нибудь разобрались бы с проблемой, если бы к ней не подме-талась третья - национальная, еврейская. И если бы евреи как раз именно в этот период не сформулировали своей националь-ной идеи - создание национального государства на земле обе-тованной. Стратегия диктовала ряд тактических задач. Одной из важных для сионистов было - доказать евреям разных стран, что они являются непонятыми, ущемленными в правах иноя-зычных государств и единственное спасение от угнетения - создание своего собственного национального государства. В этом смысле «Дело Дрейфуса» отвечало тактическим задачам сионистской пропаганды. Об этом не мог догадываться Чехов, но это доподлинно знал Суворин, человек близкий к правительственным кругам но долгу службы, имевший доверительные отношения с ми-нистром финансов Витте, министром иностранных дел Ламсдорфом, начальником комитета по делам печати Шаховским и другими чиновниками из правительства.. Разумеется, политические кризисы в странах Европы об-суждались российским правительством. На одном из заседаний министр иностранных дел Ламсдорф получил зада-ние дать информацию о новой политической структуре, зая-вившей себя в Европе — Еврейском сионистском конгрессе. Лидеры нового движения заявляли о своей лояльности прави-тельствам государств и неоднозначно высказывались о целях и задачах движения. Архив внешней политики Российской им-перии сохранил сотни донесений и обзоров о деятельности сионистских кружков и организаций в Европе и России. В 1897-98 гг. Русские миссии в Берлине, Брюсселе, Лондоне, Стокгольме, Париже, Риме, Мадриде, Лиссабоне бла-гожелательно отзывались о сионистском движении в их стра-нах. В 1899 году агентурным путем были добыты фотографии 43 российских делегатов на III Сионистском конгрессе. Боль-шинство из них были журналисты и литераторы, не имевшие большого веса в российской прессе. На этом основании депар-тамент полиции сделал вывод, явно не соответствующий дей-ствительности: «Российское сионистское движение есть все-го-навсего «жидовский гешефт...для провозглашения малень-ких имен пройдох». Однако по мере развития сионистского движения из аген-турных донесений становилось ясно, что помимо задач нацио-нального объединения, создания культурной автономии, пре-следуются и политические цели. Бессарабское жандармское управление сообщало, что сионисты являются организатора-ми политических забастовок, стачек, сходок. Министр МВД В.К.Плеве стал осознавать, что растет мощная политическая сила. Он писал в частном письме В. Коковцеву: «Сионизм создал враждебные русской государственности те-чения, правительство вынуждено всеми зависящими от него мерами преградить Когда правительству стали ясны цели и задачи сиони-стского движения (вопрос неоднократно обсуждался на засе-даниях Сената), был принят Указ о запрете антигосударствен-ных организаций сионистов и их сообществ. Это был типич-ный шаг по защите сложившейся государственности. Так по-ступало с оппозицией правительство Дизраэли в Англии, пра-вительство Клемансо во Франции, так поступило и российс-кое правительство в конце XIX века, но надо сказать, что эта традиция и через сто лет, в 1993 году сохранилась, когда правительство Ельцина расстреляло оппозиционный Верховный Совет и запретило ставшую в оппозицию Коммунистическую партию, так поступают в XX веке с курдами в Турции и Герма-нии, студентами в Китае, исламистами в США... Вернемся к реалиям, современным Чехову в конце XIX век. Итак, Чехову ничего не было известно о политических целях национального еврейского движения. Но близкий к правительству Суворин был достаточно информирован на эту тему: материалы заседаний Сената и правительственный указ дали определенный ход его дальнейшей публицистической работе. Безусловно, осведомлен был по этому вопросу и парижский корреспондент «Нового времени» Исаак Яковлевич Павловс-кий, земляк Чехова, некоторое время даже живший в таганрог-ском доме Чеховых. (Псевдоним Павловского в газете - «Ив. Яковлев»). Павловский пересылал Суворину парижскую прессу о Дрейфусе и свои отчеты и комментарии судебного процесса. Чехов не принимал позицию Павловского, в одном письме даже назвал ее ужасно бесстыдной. Суворин в своих «Маленьких письмах» тоже взялся комментировать происходящее в Пари-же. Когда во влиятельной газете «Фигаро» появилась первая статья в защиту Дрейфуса Золя (она называлась «Господин Шерер-Кестнер», 25 ноября 1897 г), Суворин испугался, что влияние талантливого, активного и политически искушенного писателя и журналиста уведет процесс в сторону, а может, и помешает спокойному, объективному разбирательству. В «Ма-леньком письме» от 19 декабря 1897 г. он выразил свои опасе-ния и напомнил яркий исторический пример, когда Вольтер вступился за протестанта Жана Каласа (1762 г.), и тот был не-заслуженно оправдан (правда, посмертно). Аргументы Суво-рина вроде бы были разумны, но язвительное резюме вызыва-ло желание поспорить: «Лавры Вольтера не дают спать Золя». Чехова-то точно возмутила подобная фраза, она была направ-лена против собрата по перу, чей талант он ценил, он не мог мириться с любым ограничением свободы высказывать или не высказывать свое мнение. Нуждался ли Золя в чеховской защите? Навряд ли. Акция Золя была строго просчитана им и его единомышленниками. Они понимали, что повлиять на ход судебного разбирательства не смогут, значит, нужно повлиять на общественное мнение. Золя написал ряд статей, адресованных разным группам насе-ления: «Письмо юным», «Письмо Франции», «Письмо госпо-дину Феликсу Фору, Президенту Республики», «Письмо гос-поже Альфред Дрейфус»... И добился поставленной цели - вызвал огонь на себя… Против Золя было возбуждено уголов-ное дело, которое кончилось решением суда: год тюрьмы и штраф в 3 тысячи франков. Золя бежал в Англию и оттуда по-стоянно угрожал желанием вступить в новый бой. Он писал: «Не освобождать этих господ от нашего процесса, а напротив, непрерывно дразнить их его возможным окончанием, отнять у них всякую надежду самим покончить с ним, поскольку мы вольны будем в любую минуту начать все сызнова». Суворин наверняка не знал, что брат Альфреда Дрейфу-са Матье нанял журналиста Бернара Лазара за деньги, а тот догадался познакомить с материалами дела Золя, для которо-го, конечно, деньги не имели большого значения). Тем не ме-нее в своем «Маленьком письме» он выразил опасения, что еврейский синдикат, как он пишет, не остановится перед тем, чтобы подкупить всех, кого можно подкупить и «не пожалеет никаких сумм, чтобы подкупить неподкупных». (См. «пись-мо» в «Новом времени» от 3 янв. 1898 г.). Получив в Ницце этот номер «Нового времени», возму-щенный Чехов пишет в тот же день Ф.Д.Батюшкову (почему не Суворину?): «У нас в Русском пансионе только и разгово-ров, что о Золя и Дрейфусе. Громадное большинство верит в невиновность Дрейфуса. «Новое время» просто отвратительно.» Суворину Чехов отписывает лишь на следующий день. Зная, что старика ни в чем не переубедишь, он лишь высказыва-ет ему свою позицию по этому поводу и прибегает к ироничес-кой, даже самоиронической интонации, как всегда, когда он нео-бычайно возмущен: «Дело Дрейфуса закипело и поехало, но еще не стало на рельсы. Золя, благородная душа, и я, принадлежащий к синдикату и получивший уже от евреев 100 франков, в восторге от его порыва. Франция - чудесная страна, и писатели у нее чудесные».(См.письмо от 4 янв.1898 г.). В феврале 1898 г. после повторного суда присяжных, снова осудившего Дрейфуса и оправдавшего графа Эстергази. кото-рого начальник разведки Пикар обвинял вместо Дрейфуса, Чехов несколько охолонул и попытался рассуждать аналити-чески: да, у него нет полной информации по делу капитана Дрейфуса, может, профессионалам виднее, кто виноват. Но по делу Золя его позиция однозначна: всякий волен свободно выс-казывать свое мнение публично. Он пытался убедить в пра-вильности своего суждения Суворина. Но тот стоял на своем: что вредит репутации армии, государства - преступление и должно быть уголовно наказуемо. По мнению Суворина, преступление Золя в том, что он противопоставляет интересы лич-ности и государства. А что вредно государству - вредно и лич-ности. Этого никогда не мог понять Чехов. В резкой форме, изменив своей привычке, он написал Суворину: «Пусть Дрей-фус виноват. Золя - все-таки прав, т.к. дело писателя - не обви-нять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они осуждены и несут наказание. Скажут: «а политика? Интересы государства? Но большие писатели и художники должны за-ниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно оборо-няться от нее (...). И какой бы ни был приговор, Золя все-таки будет испытывать живую радость после суда, старость его бу-дет хорошая старость, и умрет он с покойной или, по крайней мере, облегченной совестью(...). Как ни нервничает Золя, все-таки он представляет на суде французский здравый смысл». Чехов никого в жизни не поучал и как врач готов был принять любое человеческое проявление... В этом же письме к Сувори-ну проявилось, может быть единственный раз в его жизни, нео-бычайное раздражение и упрек - умрет он (Золя, а не Вы, не-счастный грешник Суворин -Л.М.) с покойной или, по край-ней мере, облегченной совестью. Мол. Вы, Суворин, по гроб жизни будете мучимы собственной совестью за поступок не-благовидный, бессовестный... Шли дни, а Чехов не мог унять волнение. Через несколько дней он написал письмо младшему брату Михаилу, с кото-рым были нежные и доверительные отношения. В этом письме он сравнивает французское правительство с женщиной, ко-торая согрешив, стремится спрятать грех и запутывается во лжи еще больше. Он удивлялся, почему «Новое время» не видело этой лжи и вело нелепую кампанию против Золя. Вслед за этим письмом он отправляет письмо другому брату, в тоне язвительном и желчном, видимо, надеясь, что сотруд-ник «Нового времени» Александр доведет его мнение до чле-нов редакции: «В деле Золя «Новое время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что она любит военных (...). Я тоже люблю воен-ных, но не позволил бы «кактусам», будь у меня газета, в При-ложении печатать роман Золя (в Приложении печатали роман Золя «Париж» и поскольку Россия не была включена в Литера-турную конвенцию, гонорар за свой перевод нового произведе-ния не платила. -Л.М.) задаром, а в газете выливать на этого же Золя помои - и за что? За то, что никогда не было знакомо ни одному из кактусов - за благородный порыв и душевную чисто-ту. И как бы ни было, ругать Золя, когда он под судом (приговор не могли привести в исполнение, потому что Золя бежал в Анг-лию) - это нелитературно».(13). В чеховских устах в данном контексте «нелитературно» звучит как непристойно, нецензур-но. Хуже оценки, чем эта, быть не могло. Вплоть до апреля Чехов не может успокоиться, видя га-зетную грызню Золя. Он разделяет его взгляды. Каким-то об-разом о позиции талантливого русского беллетриста узнает ангажированный журналист Бернар Лазар, уговаривает его дать интервью для французской печати. Чехов встречается с ним. По-видимому, посредником был все тот же Матье Дрейфус, ибо в записной книжке Чехова сохранилась лаконичная запись: «Матвей Дрейфус». Публикация Лазара разочаровала Чехова, он воочию увидел, как можно эквилибрировать словами и тен-денциозно освещать его позицию, исказить мнения, дописать чего даже не подразумевалось... В апреле он жалуется на Лазара Исааку Павловскому, а в июле - Лидии Авиловой, свое-му сердечному и тайно обожаемому другу и писательнице, мол, статья только вначале - ничего, но середина и конец - совсем не то... «Мы не говорили ни о Мелине, ни об антисемитизме, ни о том, что человеку свойственно ошибаться. План и цели нашей беседы были совсем иные. Вы помните, например, что я уклонился от ответа на вопрос о русском общественном мне-нии, ссылаясь на то, что ничего не знаю, т.к. зиму провел в Ницце, я высказал только свое личное мнение о том, что наше общество едва ли составило себе правильное суждение о Золя, так как оно не могло понять этого дела». Дело Дрейфуса и судебный процесс над Золя вымотали Чехова, он чувствовал себя опустошенным: « У меня такое от-вращение (к писательству - Л.М.), как будто я ем щи, из кото-рых вынули таракана». Суворин тоже был потрясен. Он ответил Чехову корот-ким посланием: «Нам писать друг другу более уже не о чем». Потом, в октябре 1898 г., когда Чехов вернулся в Россию, старый человек и опытный журналист Суворин первым пошел навстречу, ища примирения, написал, что в отношении Золя был неправ, что победила чеховская проницательность... Но Чехов долго не мог побороть в себе воспоминание «о таракане во щах». Нигде в публицистике Чехов не касался дела Дрейфуса и еврейского вопроса, хотя в частных письмах - не однажды. Об одном из них вспоминал видный российский сионист Членов. Чехов избегал политики, в этой области он не чувствовал себя профессионалом. Однако Н.А.Членов в 1906 г., когда Дрейфу-са помиловали и... реабилитировали, написал о Чехове в спе-циальном медицинском журнале: « Я сохранил воспоминания о нем как о необыкновенно чутком общественном и полити-ческом деятеле». Наверное, это сильно преувеличено - «чуткий политичес-кий деятель» о Чехове. И скорее всего не соответствует дей-ствительности. Гораздо ближе к истине В.Г.Короленко. Владимир Галактионович пытался сблизить Антона Павловича с писателями революционными демократами - Успенским, Ми-хайловским, другими. Сближения не получилось, ибо Чехов сторонился всякой тенденциозности - как справа, так и слева. Оценивая последний перед смертью Чехова отрезок его жиз-ни, он писал, что брызжущий смехом оптимизм Чехова усту-пил место грустному сожалению, так как «драма русской жиз-ни захватила в свой широкий водоворот вышедшего на его арену писателя». Короленко призывал био-графов и исследователей творчества Чехова вглядываться в его драматургию, потому что именно она и только она «поможет проследить историю душевного перелома», потому что по тек-стам пьес «чувствовалось, что автор на ЧТО-ТО нпадает и ЧТО-ТО защищает». …Так сложилисьобстоятельства что Чехов, как Фауст, запродал все свое творчество издателю Марксу, все кроме пьес. В их он не чувствовал себя связанным какими-то обязательствами, и только в них мог сказать свободно то, что думал сам, чем мучился сам, вкладывая свои переживания в уста персонажей и не обнаруживая себя, не обнажая свою душу. Вот цитата из «Вишевого сада»: «Трофимов: Мы отстали, по крайней мере, лет на 200, … у нас определееннного отшения к прощлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску, пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в на-стоящем, надо сначала искупить наше прошлое».... И совсем узнаваемая боль в персонаже Тригорина в «Чай-ке»: «День и ночь меня одолевает одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Пишу непрерыв-но, как на перекладных и иначе не могу... О, что за дикая жизнь! Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове, спе-шу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! И так всегда, и нет мне по-коя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь. Разве я не сумасшедший?». К 1900 году, к сорока годам, Чехов понял, что художник, если и хочет проповедовать свои взгляды, то должен делать это в форме, ему одному доступной - художественной, но от-нюдь не публицистической. Публицистика - удел политиков, не его удел. И навсегда отказался от журналистики. Решение, поистине, принято при ясном уме и трезвой памяти... Но отка-зался ли он при этом от журналистских связей, от отношений с Сувориным? С сердечной дружбой было покончено, но пере-писка продолжалась по деловым поводам. *Л.П. Макашина. Из книги «Вокруг А.С. Суворина» Святослав Иванов |
Популярное:
Новое
- К чему снится клещ впившийся в ногу
- Гадание на воске: значение фигур и толкование
- Тату мотыль. Татуировка мотылек. Общее значение татуировки
- Что подарить ребёнку на Новый год
- Как празднуют день святого Патрика: традиции и атрибуты День святого патрика что
- Как научиться мыслить лучше Я не умею быстро соображать
- Эти признаки помогут распознать маньяка Существует три способа достижения абсолютной власти
- Как спастись от жары в городской квартире
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?