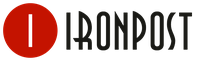Разделы сайта
Выбор редакции:
- Гадание в новый год для привлечения денег Как правильно гадать на новый год
- К чему снится клещ впившийся в ногу
- Гадание на воске: значение фигур и толкование
- Тату мотыль. Татуировка мотылек. Общее значение татуировки
- Что подарить ребёнку на Новый год
- Как празднуют день святого Патрика: традиции и атрибуты День святого патрика что
- Как научиться мыслить лучше Я не умею быстро соображать
- Эти признаки помогут распознать маньяка Существует три способа достижения абсолютной власти
- Как спастись от жары в городской квартире
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?
Реклама
| "Цицерон. Эстетика идеала и высокой нормы" |
|
Г. С. Кнабе ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ В середине ныне истекающего столетия (двадцатого. — А. П.) в западном общественно-историческом познании вообще и в науке о культуре в частности распространилось увлечение точными и объективными математическими методами. Возникло стремление дать любому изучаемому явлению четкое однозначное определение. На его основе выделялись конститутивные свойства явления, они сводились в бинарные оппозиции, образовывавшие определенную структуру, после чего и эти оппозиции, и составлявшие их характеристики должны были быть описаны сколь возможно полно и строго. Вскоре, однако, выяснилось, что при всех очевидных достоинствах такого подхода недоступными ему остаются основополагающие, глубинные и главные понятия духовного бытия человечества — солидарность и вера, любовь и ненависть, самоотвержение и подвиг, потребность в деятельности и потребность в самоуглубленном созерцании. Попробуйте дать строгое и однозначное определение любви или подвигу и у вас не останется ни любви, ни подвига. Они рождаются в тех глубинах сознания, где сливаются воедино разум и страсть, знание и переживание, сознательное воздействие на действительность и интуитивные предпочтения или отталкивания. Именно поэтому они сопровождают человечество на всем протяжении его истории, составляют кровь и плоть его социальной жизни, и мы не можем о них не думать, не пытаться проникнуть в их сущность, ясно понимая при этом, что подобное проникновение не может быть осуществлено в рамках однозначных определений и чисто рационального анализа. Культура относится к числу таких вечных слагаемых исторического бытия человечества. Она тоже всегда есть— в нас и вокруг нас, также не поддается точному и однозначному исчерпывающему определению и также должна тем не менее быть познана, если мы хотим жить в окружающем нас социальном мире не вслепую, а сознательно, с ясными и открытыми глазами. Известные к настоящему времени многочисленные определения культуры, при всем остроумии и важности некоторых из них, мало что дают для постижения ее сущности именно потому, что стремятся свести культуру к некоторой ограниченной однозначности, в рамки которой она в принципе не вмещается В этих условиях, по-видимому, перед нами встают две задачи. Во-первых, не претендуя на точность определений, надо указать на некоторые главные, структурные свойства культуры, повлиявшие и продолжающие влиять на ее роль и характер в истории человечества. И надо, во-вторых, задуматься над тем, как эти общие и более или менее неизменные свойства преобразуются на каждом этапе исторического развития, принимают тот или иной облик в атмосфере данного, а не иного общества. Изучение истории мировой культуры предполагает, к какой бы эпохе Вы ни обратились, постоянный учет этих задач и в их своеобразии, и в их взаимодействии. Из наиболее общих, устойчивых особенностей культуры нам будет важно остановиться на двух — на двуединстве культуры и на соотношении в ней личности, т. е. существа общественного и своей принадлежностью к обществу исчерпывающегося, и индивидуальности — существа неповторимого, экзистенциального. ДВА ЛИКА КУЛЬТУРЫ Культура есть характеристика человеческого общества; природа как таковая, природа без человека лежит вне культуры и ее не знает. Как характеристика человеческого общества культура обусловлена фундаментальным свойством этого общества — нераздельностью и неслиянностью человека (отдельного, индивидуального, частного начала действительности) и общественного целого, т. е. родового, совокупного, коллективного начала. Каждый из нас — неповторимая индивидуальность, каждый живет в мире своих вкусов, симпатий и антипатий, обеспечивает условия своего существования, создает в меру сил свое материальное окружение и свою микросреду. И в то же время все, что мы делаем, знаем, говорим, думаем, мы делаем и знаем, думаем и говорим как члены общества, на основе того, что нам дало оно. На языке общества, к которому принадлежим, формулируем мы наши мысли и обмениваемся ими, в ходе взаимодействия с обществом растем и взрослеем, из него черпаем наши представления о мире, в нем реализуем себя в труде. Лишь вместе, во взаимообусловленности и взаимоопосредовании, составляют оба эти начала общественную реальность. Культура отражает это двуединство общества, охватывая мир человека, воспроизводящего себя в процессе повседневной практики. Воспринимая целиком обе эти сферы, культура знает как бы два движения — движение “вверх”, к отвлечению от повседневных забот каждого, к обобщению жизненной практики людей в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и движение “вниз”, к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования — привычкам, вкусам, устойчивым стереотипам поведения, моде, быту. В пределах первого из указанных типов движения культура воспринимает себя и воспринимается обществом как Культура с большой буквы. Отвлеченная от эмпирии повседневного существования и бесконечности индивидуального многообразия, она тяготеет к закреплению традиции и к респектабельности, к профессионализации деятелей, ее создающих, к восприятию более или менее подготовленной аудиторией и в этом смысле к элитарности. В пределах второго типа культура растворяется в повседневном существовании и его эмпирии, в материально-пространственной и предметной среде, окружающей человека, не воспринимает себя как Культуру в первом, респектабельном, смысле и тяготеет к тому представлению о себе, в соответствии с которым употребляется слово “культура” в археологии — как совокупность характеристик практической, производственной и бытовой жизни людей данного общества в данную эпоху. Существовала — а в какой-то мере и кое-где существует до сих пор — весьма широкая полоса исторического развития, где описанные два регистра еще не разделились. Ее составляют так называемые архаические общества и соответственно архаические культуры. Суть архаического мировосприятия заключается в том, что любые существенные события и действия, составляющие человеческую жизнь, — рождение, брак, смерть, основание города, дома или храма, запашка земли, прием пищи и т. д. имеют значение и ценность не столько сами по себе, сколько как повторение мифологического, идеального образца, как воспроизведение некоторого прадействия. Средством такого повторения служит ритуал. В результате между основными моментами трудового и повседневно-бытового обихода, с одной стороны, и образами коллективно-трудовой и космически-мировой жизни, с другой, т. е. между двумя намеченными выше регистрами культуры, устанавливаются отношения параллелизма, внутренней связи и взаимообусловленности. В большинстве мифологий, например, существует представление об отделении богами тверди от хляби и о выделении упорядоченного, организованного пространства из первозданного хаоса как изначальном акте творения. Поэтому овладение новой землей — будь то на основе военного ее захвата, будь то в результате открытия — становилось подлинно реальным в переживании каждого, только если с помощью точно исполненного ритуала в этом акте обнаруживалось повторение изначального мифологического акта творения. Так, в частности, объяснялись обряды закладки городов у древних римлян. Проведя ночь у костра, основатели будущего города втыкали в землю шест (или копье), следя за тем, чтобы он стоял строго вертикально, и когда шест, озаренный первым лучом восходящего солнца, отбрасывал на землю длинную тень, по ней поспешно проводили плугом борозду, определявшую направление первой из двух главных улиц будущего города — декумануса. На нее опускался перпендикуляр, становившийся второй главной улицей — кардином. У скрещения их возникало ядро будущего города, одновременно деловой, общественный и сакральный центр, с сосредоточенными здесь храмами, базиликой, рынком. Происходил исходный, архетипический акт культуры — заклятие неупорядоченной первозданной природы: на ее хаотическую пустоту, повторив начальный акт творения, оказывалась наложенной четкая геометрия порядка и воли. Архаическое единство обоих регистров культуры оказалось изжитым в связи со значительным ростом имущественной дифференциации. Именно тогда произошло отделение интересов общественного целого и его идеологической санкции от интересов и быта, труда и жизни простых людей. Первые стали тяготеть к обособлению от повседневности, к величию и официальности, вторые — искать себе форм более жизненных. Противоречие между ними характеризует культуру на всем протяжении истории вплоть до XIX в. Это противоречие нашло себе выражение, в частности, в обособленном языке культуры, в принципе риторики, в протесте против высокой Культуры — сначала мифологическом, позже социально-классовом. Рассмотрим кратко эти черты культурно-исторического процесса. Они продолжают сказываться в современной культуре и подлежат учету при изучении культуры прошлого. Обособление языка Культуры отмечается на протяжении почти всей ее истории. Обнаруживается ясное стремление высокой Культуры замкнуться в социально ограниченном кругу и выражать себя на особом языке, доступном этому кругу, но непонятном остальным. Самый близкий к нам по времени пример — использование французского языка дворянским обществом пушкинской поры. Пример, однако, наиболее показательный и значительный— латинский язык и его роль в европейской культуре вплоть до конца прошлого века. Перед рубежом новой эры обнаруживаются признаки усугубляющегося расхождения между живым латинским языком как средством общения римского населения и тем же языком, остановившимся в своем развитии, приуроченным к определенным литературным жанрам и обслуживающим государственную документацию, право и культы. Уже Цицерон говорил, что он пользуется одним латинским языком в суде или сенате и совсем другим у себя дома. Дальнейшее развитие народного латинского языка привело к образованию отдельных романских языков (французского, итальянского, испанского и др.), долго существовавших в виде различных диалектов, но над этим пестрым многообразием местных и повседневных средств общения от Лиссабона до Кракова и от Стокгольма до Сицилии царил единый и неизменный грамматически упорядоченный, искусственно восстановленный и тщательно охраняемый латинский язык, ценный в глазах носителей его — юристов и священников, врачей и философов, естествоиспытателей и студен-тов — именно тем, что в своей отвлеченности от всего местного, частного, непосредственно жизненного он наиболее полно соответствовал величию и характеру Культуры. Такая логика была чрезвычайно распространена и действовала далеко за пределами приведенных примеров. Говорят, что Николай І однажды спросил своего министра просвещения С. С. Уварова, зачем нужна в русском языке буква ять. “А для того, Ваше Величество, — отвечал министр, — чтобы отличать грамотных от безграмотных”. РИТОРИКА Внутренняя потребность Культуры замкнуться в сфере всеобщего порождает определенные формы искусства, служащие для выражения исторического бытия как целого в его величии и не опускающиеся до всего частного, отдельного, личного и в этом смысле случайного. Великий мыслитель античной эпохи Аристотель (384-322 гг. до н. э.) оставил теоретический трактат “Об искусстве поэзии” (иногда его называют также “Поэтика”), где высказано убеждение в том, что “поэзия философичнее и серьезней истории: поэзия говорит более об общем, история — о единичном”. На этом основании Аристотель делил все жанры словесного искусства на высокие и низкие, противопоставляя эпос, трагедию, героическую поэму комедии, сатире, легкой поэзии, и такое деление сохранило свое значение в европейской культуре на протяжении тысячелетий вплоть до XIX в. Исходя из тех же потребностей Культуры, выработалось и особое отношение к организации языкового материала, которое тогда же, в античную эпоху, породило понятие риторики. В Риме Цицерон (106-43 гг. до н. э.) определял ее как “особый вид искусного красноречия”, выражая смысл выделенного нами прилагательного латинским словом artificiosa, соединявшего в себе значения “умелый”, “художественный” и “искусственный”. И в античную эпоху, и в течение последующих столетий риторика означала, во-первых, расчленение и организацию мысли по пунктам, по разделам, с выделением главного, с четкой постановкой вопроса и четкими выводами, во-вторых, — использование для выражения мыслей и чувств ранее уже удачно найден-ных и закрепившихся в практике клишированных словесных блоков. Общий культурный смысл риторики состоял и состоит в создании текста, обеспечивающего яркость, силу и эстетическую убедительность выражения путем апелляции к логике, культурному опыту языкового коллектива, его исторической и образной памяти в несравненно большей мере, чем к непосредственному индивидуальному переживанию. В этих условиях очень многое в повседневной жизни людей, в их верованиях, надеждах, взглядах не могло найти себе ни воплощения, ни удовлетворения в сфере высокой Культуры. Такие взгляды, чувства и чаяния искали самостоятельную возможность выразить себя и порождали особый модус общественного сознания, альтернативный по отношению к высокой Культуре. На протяжении истории он обнаруживал себя в двух формах. Первая была характерна для развития классовых обществ, представлена низовой культурой народных масс и соотнесена с так называемым плебейским протестом против Культуры КАРНАВАЛЬНОЕ НАЧАЛО КУЛЬТУРЫ В преданиях многих народов центральную роль играет героический персонаж, ценой жертв и подвигов одолевающий царивший в мире первозданный хаос, побеждающий и изгоняющий чудовищ, которые ранее владели миром, и закладывающий основы цивилизации. Таков у древних греков Прометей. Он достал с неба огонь и научил людей им пользоваться, за что был страшно наказан ревнивыми богами. Таков у германцев Тор — бог плодородия и грозы, орошающей землю, защитник богов, создавших в мире порядок, и защитник людей от великанов, что связаны с чудовищами и несут хаос. Подобные персонажи получили в науке наименование “культурный герой”. Они действительно “устраивают” мир, вносят в жизнь знания и труд, ответственность и справедливую кару, строй и порядок, т. е. закладывают основы культуры. Но одна из важнейших особенностей культуры состоит в том, что знания и труд, строй и порядок, “устроенное” и упорядоченное общественное бытие, воспринимаемые с самого начала как безусловное благо, тут же обнаруживаются как нечто отличное от непосредственности существования и потому несущее в себе элемент отчужденности и принуждения. В тех же мифах и преданиях проявляется потребность человечества периодически восставать против упорядоченности и устроенности, т. е. против Культуры. В качестве носителя этого протеста рядом с культурным героем встает его диалектически отрицательная ипостась, ему враждебная и от него неотделимая. В науке такой “антигерой” получил название трикстера (от позднелатинского слова, позже заимствованного английским языком со значением “трюкач”, “обманщик”). Типичный трикстер, например, — один из персонажей древней скандинавской, дохристианской мифологии по имени Локи. По некоторым версиям мифа, Локи — брат верховного бога мудрого Одина и спутник упомянутого выше Тора, изобретатель рыболовной сети. Он, таким образом, явно входит в круг культуры как двойник культурного героя. Но место его в культуре особое. Он переживает бесконечные превращения — становится то соколом, то лососем; его стихия — обман, воровство и какой-то демонический комизм, жалкий и наглый вместе. Кончает он скандалом: на пиру богов поносит их всех, разоблачает их трусость и распутство, как бы выворачивая наизнанку их устоявшиеся величественные образы и претерпевает за это от них мучительное наказание. Локи не одинок. Подобные озорники и плуты, демонически-комические дублеры культурного героя, отмечаются в мифологии разных народов. Очевидно, потребность увидеть в культуре и организованном миропорядке не только благо, но и стеснение, принуждение каждого во имя целого, и идущая отсюда привлекательность и важность противоположного, как бы самоотрицающего, начала культуры — одна из универсальных характеристик общественного сознания. В позднейшие эпохи роль трикстера берут на себя шуты, “дураки”, столь распространенные на Руси скоморохи. Принцип “наизнанку” продолжает жить и во всей так называемой смеховой культуре, столь подробно исследованной одним из зачинателей современной теории культуры М. М. Бахтиным. Импульсы антикультуры живут в культуре. Без них немыслимо ее бытие, а без учета их немыслимо ее познание. Потребность дать свободу силам жизни, не получающим выхода в мироупорядочивающей и гармонизирующей Культуре, проявлялась на ранних стадиях развития особенно отчетливо в присущих многим народам обрядах и празднествах карнавального типа. Изначальная суть “карнавала” состояла в том, что в определенные моменты года (обычно после сбора урожая или при открытии кладовых с новым урожаем) на несколько дней социальная структура, культурные нормы и моральные заповеди как бы переворачивались вверх дном. В древнем Вавилоне на место царя избирался раб, как позже, в средние века, в Европе избирался карнавальный король шутов; в конце карнавала короля шутов судили, приговаривали к смертной казни и торжественно сжигали его чучело, но до того он оглашал завещание, в котором красноречиво разоблачал грехи “приличного общества”. В античной Греции по завершении сбора урожая устраивались Кронии— праздник, аналогичный римским Сатурналиям. Последние, пожалуй, выражали сущность карнавала полнее всего. Неделя с 17 по 23 декабря посвящалась Сатурну — богу обильных урожаев и олицетворению “золотых” — доцивилизованных и докультурных — времен. В память о легендарных временах хозяева усаживали рабов за свой стол, угощали их и сами им прислуживали, женщины надевали мужскую тогу, которая в этих условиях становилась символом распущенности, налагалось табу на все виды деятельности, связанные с насилием, принуждением, наказанием: судопроизводство и исполнение приговоров, проведение народных собраний и военных наборов, установление границ земельных участков и огораживание их, подведение быков под ярмо, стрижка овец. Неделя проходила в веселых застольях, во время которых люди делали друг другу подарки. Смысл этих празднеств состоял в том, что “золотой век”, олицетворенный Сатурном, воспринимался народом как “время до времени”, не знавшее благ, но зато не знавшее и тягот общественной организации, цивилизации и культуры. Иную реакцию на описанные выше особенности высокой Культуры представляет так называемый плебейский протест против нее. Ярко проявился он, например, во многих ересях средневековья. Независимо от конкретного содержания каждой почти все они противопоставляли регламентированной вере, которую насаждала и жестко контролировала церковь, непосредственное общение с Богом, служение ему душой и образом жизни, а не непонятными обрядами. Поскольку же церковь ко времени развитого средневековья (XIII-XIV вв.), а тем более к началу Возрождения (XIV-XV вв.) накопила огромные богатства и в немалой доле расходовала их на украшение храмов, покровительство искусству, собирание и переписку старинных рукописей, то протест еретиков принимал форму критики именно этой деятельности церкви, выражался в требовании простоты веры, образа жизни, в апелляции к религиозному переживанию больше, чем к знанию священных текстов, в требовании братских отношений между верующими и их равенства во Христе вместо общественной иерархии, в основе которой лежало признание благополучных и прикосновенных к учености лучшими христианами, нежели “простецов”, т. е. нищих, неблагополучных и неученых. Один из самых ярких носителей этого умонастроения, Франциск Ассизский (1182- 1226), так наставлял своих собратьев, отправляя их в мир для проповеди покаяния и возвращения к чистому евангельскому христианству: “Не опасайтесь, что мы кажемся малыми и неучеными, но без опасений и попросту возвещайте покаяние. Бог, покоривший мир, да вложит вам в душу уверенность, что в вас и через вас раздается его голос”. Такого рода плебейский протест мог быть оправдан как требование социальной справедливости и потому мог нести в себе определенное положительное историческое содержание. При последовательном проведении его в жизнь, однако, культура начинала восприниматься исключительно как “дело сытых”, искусство — как легкомысленная “суета сует”, и то и другое становились знаком греховного отпадения от простоты веры. Везде, где берет верх эта логика, плебейский протест принимает антикультурный характер и, как во всех антикультурных движениях, в нем — независимо от чистоты помыслов инициаторов и многих участников — обнаруживаются, а потом и реализуются разрушительные потенции. Так случилось в Италии, сначала во втором и третьем десятилетиях XIV в., в движении францисканца Дольчино, а позже, в конце XV столетия, в той же Италии в движении, возглавленном доминиканским монахом Джироламо Савонаролой. ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ Соотношение этих двух величин образует еще одну структурную характеристику культуры — устойчивую, представленную практически на всех этапах ее развития, но в то же время принимающую на каждом из таких этапов свой особенный облик. Вернемся к определению обоих указанных понятий, данному в предварительном порядке в начале настоящей лекции. “Личность” есть характеристика человека с точки зрения его участия в общественной жизни и значительности роли, которую он в этой жизни играет. “Индивидуальность” определяет внутренний мир человека, его духовный потенциал, выражающийся обычно в формах, не имеющих прямого и непосредственного общественного содержания. Граница между “личностью” и “индивидуальностью” одновременно и непостоянна, условна, и дана объективно, закреплена в традиции. Условность такой границы явствует из того, что историческое поведение людей, в котором непосредственно реализуются исторические процессы, зависит от идейной позиции человека по отношению к обществу, от его, этого человека, интересов и политических убеждений; такая “личная” позиция всегда и глубоко опосредована “индивидуальностью” — особенностями характера, эмоционально-психологическим складом и т. д. Анализ личности Наполеона, данный Л. Н. Толстым в романе “Война и мир”, наглядно показывает взаимосвязь этих двух сторон человека и сохраняет во многом значение образца, эталона для ее понимания. В то же время сознание устойчивой раздельности “личности” и “индивидуальности” сопровождает европейского человека на всем протяжении его истории. Общественная семантика слова “личность” закреплена в его контекстах как в современном русском языке (“выдающаяся личность”, “межличностные отношения”, “удостоверение личности”, “личное дело” как совокупность документов и т. д.), так и в его иноязычных аналогах: фр. personne (и еще отчетливее реrsonalite), англ. рersonality, исп. реrsonaje означают именно личность в аспекте ее общественных проявлений и достижений. Вся эта семья слов восходит к латинскому слову древнего, этрусского, происхождения реrsona, изначально означавшему “маска актера”, “личина”, “совокупность внешних, общественных проявлений человека”. Напротив, слово “индивидуальность” состоит из основы латинского глагола divido “разделяю” и отрицательного префикса и этимологизируется, таким образом, как “нераздельность”, т. е. не поддающееся дальнейшему делению ядро, оставшееся после всех внешних манифестаций и характеризующее человека в его неповторимости, интимной сущности. Развитие рассматриваемого противоречия во многом определяет историческую эволюцию культуры, воплощаясь в двух формах. Первая представляет собой цикл от преобладания “личности” до преобладания “индивидуальности” в рамках каждой отдельной эпохи. Вторая форма — линейно поступательная, объемлющая всю историю человечества (по крайней мере европейского), ознаменованная неуклонным, “сквозным” нарастанием роли “индивидуальности”. Так, для древнего Рима наилучшим источником при характеристике указанного соотношения являются эпитафии, а позже— выросшие из них литературные портреты в надгробных хвалебных речах или в составе исторических сочинений. В третьем, а во многом еще и во втором веке до н. э. эпитафии и надгробные речи строились по единой схеме: имя, род, общая оценка, деяния на службе государству. Так строились эпитафии полководцев и государственных деятелей — Сципионов, например. В конце республики (середина І в. до н. э.) Цицерон уже убеждал знакомого, вознамерившегося написать историю времени, им пережитого, сосредоточить рассказ на отдельных конкретных людях, показав своеобразие каждого. “Ведь самый порядок летописей, — писал Цицерон, — не особенно удерживает наше внимание — это как бы перечисление должностных лиц, но изменчивая и пестрая жизнь человека, тем более человека выдающегося, вызывает изумление, чувство ожидания, радость, огорчение, надежду, страх”. Столетием позже философ Сенека (ок. 5 г. до н. э.— 65 г. н. э.) делает следующий шаг. Одно из основных и самых популярных его сочинений, созданных уже в конце жизни, — собрание писем к другу Луцилию. Первое же письмо начинается словами: “Отвоюй себя для себя самого”. Все последующие письма развивают ту же тему недоверия к внешним признакам человека, в том числе карьере и государственным наградам, и выдвигают на первый план внутреннюю жизнь. Движение из сферы “личности” в сторону “индивидуальности” видно здесь совершенно отчетливо. Столь же заметно, однако, и сохранение, даже на заключительных стадиях описанного процесса, определяющей, хотя подчас фоновой, роли общественно-государственной ответственности. Последнее слово все же остается за ней. Тот же Сенека, писавший о преимуществах доблести внутренней, душевной перед доблестью, направленной на достижение внешних целей, считал, что и она естественней всего проявляется в сражениях за отчизну, и сам большую часть жизни с рвением занимался государственными делами. Фактически открытая им для Рима стоическая мораль, ориентированная на внутренние ценности, увлекла его младших современников, составивших в сенате 60-70-х годов так называемую стоическую оппозицию. Но расхождение их с императорами не в последнюю очередь было вызвано различиями в понимании роли государства и власти. Тот же цикл повторяется в следующую культурную эпоху, в средние века. Для архаических институтов и для архаического искусства человек не существует вне общественного целого, которому он не столько служит, сколько принадлежит, естественно и без рефлексии. В развитом эпосе типа “Песни о Роланде” или “Песни о Нибелунгах” появляются индивидуальные характеристики персонажей. В германских или провансальских лирических песнях ХII- ХIII вв. показаны уже люди с весьма сложным внутренним духовным миром. Этот духовный мир обнаруживает более высокую степень “индивидуальности”, чем у людей, завершавших античный культурный цикл, но и здесь последнее слово остается не за неповторимо индивидуальной экзистенцией, а за целокупными ценностями, объемлющими все христианское человечество. Чтобы в этом убедиться, достаточно перечитать хотя бы переписку Абеляра и Элоизы. То же впечатление создается при переходе в рамках культуры Возрождения от людей типа Петрарки или Леонардо Бруни к персонажам Макьявелли или, в следующем барочно-классицистическом цикле, от героев Корнеля, в которых личная страсть борется с государственным долгом, к герою, представленному в “Исповеди” Руссо, и к его современникам. Процесс этот завершается революцией, произведенной в первой половине XIX в. романтиками, и появлением экзистенциального человека, полной перестройкой всей системы отношений между “личностью” и “индивидуальностью”. Из этой революции рождается в широком смысле слова наше время. Подведем итоги. КУЛЬТУРА ДВУЕДИНА. Она представляет собой систему диалектических противоречий, производных от одного, центрального противоречия — между индивидом и родом. В основе культуры лежит непрестанное взаимодействие обобщающих тенденций и форм — с тенденциями и формами, направленными на самовыражение человека в его неповторимости. Эти тенденции нераздельны и неслиянны. Нельзя выразить себя, не обращаясь к обществу, не пользуясь его опытом и его языком, т. е. не отвлекаясь от себя в собственной неповторимости, как нельзя построить общество, которое бы не состояло из индивидов, другими словами, не выражало бы себя через отдельных людей и существовало бы как целое вне образующих его личностей. КУЛЬТУРА СУЩЕСТВУЕТ В ИСТОРИИ, НО ЕЙ НЕ ТОЖДЕСТВЕННА. Она длится, меняется и живет в означенных выше противоречиях, неотделима от них. В истории действуют силы, постоянно стремящиеся к преодолению этих противоречий силовым путем, за счет уничтожения одного из полюсов. Такие стремления бесконечно реализовывались и реализуются в истории, образуя значительную долю ее содержания, но культура в подобных ситуациях прекращается. Борьба католической ортодоксии (где главное — поклонение вне нас объективно существующему Богу) и реформации (где особенно важна ответственность перед Богом, живущим не только объективно, но прежде всего в нашей душе), все споры вокруг этого противоречия — безусловные факты культуры, но ни Варфоломеевская ночь, ни отмена Нантского эдикта фактами культуры не являются, хотя они вполне очевидно представляют собой факты истории. Действия, подобные Варфоломеевской ночи или отмене Нантского эдикта, имеют целью разрушение диалектически противоречивой структуры духовного бытия, утверждение одной цельной, всеобщей и непротиворечивой истины и именно поэтому находятся вне культуры, ибо ее смысл не в разрушении жизненных противоречий и не в пассивном приятии их, а в “снятии” противоречий жизни и истории, в познании, в духе и слове. Отсюда — следующая особенность культуры. КУЛЬТУРА ДИАЛОГИЧНА. Оглянемся на факты и обстоятельства, описанные выше. Латинский язык противостоит на-циональным диалектам, но в каждом национальном языке Европы огромный лексический массив восходит к латыни. Трикс- тер — антагонист, но и двойник культурного героя. Ересиархи враждуют с церковью, ибо считают, что последняя забыла и исказила христианское вероучение, которое и они и она равно исповедуют. Культура не разрывает ткань диалога, а несет ее в себе. Культура как диалог утверждает, что каждое из столкнувшихся начал представляет одну из возможных перспектив развития, тем самым — одну из сторон истины, и только в диалоге может раскрыться ее становящееся, новое содержание. Культура как диалог предполагает сознательное или бессознательное убеждение антагонистов в существовании объективной истины и в своей ответственности перед ней, что заставляет в конечном итоге слышать противника, участвовать в воссоздании диалектической истины целого и тем самым — в культуре Георгий Степанович Кнабе (20 августа 1920, Коканд - 30 ноября 2011, Москва, Россия) - советский и российский историк, филолог, философ, культуролог, переводчик. БиографияРодился в семье преподавателя гимназии Степана Степановича Кнабе (?-1941) и эстрадной певицы Софьи Павловны Левитиной (сценический псевдоним Мар-Кнабе; 1895-1973). В 1922 году родители поселились в Москве, с 1924 года семья жила в районе Арбата. После развода родителей воспитывался отчимом - военным дирижёром С. А. Чернецким. В 1938-1941 годах учился в МИФЛИ, в октябре 1941 года добровольцем ушёл на фронт (рядовой 1-го стрелкового полка 1-й дивизии 3-й Ударной армии). Был тяжело ранен в голову в бою за г. Осташков на Северо-Западном фронте, комиссован после пребывания в госпитале. Окончил Московский государственный университет (1943) по специальности «иностранные языки и зарубежная литература». Кандидат филологических наук (1956, диссертация «„Племянник Рамо“ Дидро»), доктор исторических наук (1983, тема диссертации: «Корнелий Тацит и социально-политические противоречия раннего принципата в Риме»), профессор (1985). Действительный член Российской академии гуманитарных исследований. Вице-президент Российской ассоциации антиковедов. Член редакционно-издательского совета международного журнала по классической традиции (International Journal of the Classical Tradition). Член бюро международного издания «Корпус античных ваз» (Corpus Vasorum antiquorum). Участвовал в подготовке к изданию «Истории» Корнелия Тацита (Л., 1969). Автор вступительной статьи, составитель, переводчик книги: Цицерон. «Эстетика. Трактаты. Речи. Письма» (М., 1994).
Направления научных исследований: культура и история Древнего Рима; античное наследие в русской культуре, то есть рецепция античной культуры (в первую очередь римской) в России; семиотика культуры (преимущественно современной). СемьяЕдиноутробные сёстры - Людмила Марковна Зак (1917-2001), доктор исторических наук (1968), профессор Московского государственного педагогического института (1972), и Вера Семёновна Чернецкая (в замужестве Ноу), солистка хора Большого театра. Брат - Адольф Степанович Чернецкий (1926-1998). Жена (с 1960 года) - Ревекка Борисовна Иоффе (псевдоним - Р. Сашина; 1924-2008), литератор, переводчик художественной прозы с испанского языка. Её дед (со стороны матери), зубной врач Дон Львович Аронсон, был родным братом скульптора Наума Аронсона и искусствоведа Лазаря Аронсона. Научные труды
Публицистика
Род. в Коканде Туркестанск. АССР, умер в М. Историк, филолог, философ, культуролог; к. ф. н. (1956), д. и. н. (1983). Род. в семье гимназич. преподавателей. С 1922 – в М. В 1924 поселился вместе с родителями в р-не Арбата; духов. и интеллект. атмосфера старин. моск. местности во многом определила дальнейший жизнен. путь К. В 1938–41 – студент лит. ф-та ИФЛИ (специализация – франц. яз. и лит-ра). В окт. 1941 добровольцем ушел на фронт. После ранения и демобилизации в июне 1942 восстановился на филол. ф-те МУ, кот. окончил в 1943. Одноврем. (июнь 1942 – сент. 1945) – сотр. отд. печати Всес. общ-ва культ. связей с заграницей (ВОКС): референт, стар. референт, ред. В 1945–46 – стар. преп. каф. лит-ры Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков. В 1946–49 преподавал англ. яз. на курсах Мосгороно. С 1949 по 1956 – преп. каф. франц. яз. Курск. гос. пед. ин-та. С сент. 1956 по авг. 1961 – м. н. с., ст. н. с. АПН РСФСР. Зав. каф. иностр. языков (1961–87) и преп. культурологии во ВГИКе: доц. (с 1963), проф. (с 1985). Докт. дисс. «Корнелий Тацит и проблемы истории Древнего Рима эпохи Ранней империи (конец I – начало II вв.)» (1983). В сент. 1991 – июне 1992 – проф. каф. культуры Ин-та повышения квалификации МУ. С июня 1992 до кон. жизни – в. н. с., г. н. с. Ин-та высш. гуманит. исследований и Учебно-науч. центра визуальной антропологии и эгоистории РГГУ. Специалист в обл. истории и культуры Др. Рима. Переводил на рус. яз. соч. К.Тацита и Цицерона. Автор монографич. исследований «Корнелий Тацит: Время. Жизнь. Книги» (М., 1981) и «Древний Рим – история и повседневность: очерки» (М., 1986); ст. о К.Таците в БСЭ-3 (Т. 25. М., 1976). Отв. ред., автор предисл. и отдельн. глав в сб. «Быт и история в античности» (М., 1988). Написал учеб. пособие «Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима» (М., 1993). Занимался проблематикой антич. наследия в рус. культуре, вопросами семиотики культуры. Эта сторона науч. деят-сти К. нашла отражение в работах «Воображение знака: Медный всадник Фальконе и Пушкина» (М., 1993), «Гротескный эпилог классической драмы. Античность в Ленинграде 20-х годов» (М., 1996), а также в цикле лекций «Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России» (Программа-конспект лекционного курса. М., 2000). Уделял внимание философии постмодернизма, в русле кот. рассуждал об утрате совр. человечеством традиц. ценностей (в частности, исчезновения понятия истины). Особое место в сфере исслед. интересов К. занимала М. Вместе с С.О.Шмидтом, Б.Ш.Окуджавой, С.С.Аверинцевым и др. уч-вал в публ. «Арбат. 16 ракурсов одной улицы. [об опыте реконструкции Старого Арбата]» (Архитектура СССР. 1986. № 4). Отв. ред. сб. ст. «Москва и "московский текст" русской культуры» (М., 1998), для кот. написал развернутый очерк «Арбатская цивилизация и арбатский миф». Автор ст. «Булгаков и Малая Бронная: комментарий к I и III главам романа "Мастер и Маргарита"» (опубл. в сб.: ХХ век и русская литература. Alba Regina Philologiae. Сб. науч. ст. в честь 70-летия Г.А.Белой. М., 2002); «Русская интеллигенция. Арбат», «Дитя Арбата» (опубл. в сб. ст. К. «Древо познания и древо жизни». М., 2006) и др. Воспоминания о М. 1920–40-х составили содержание видеомемуаров К. «Слышать шепот времени», записан. в РГГУ (CD-ROM. М., 2007). Действ. чл. Рос. акад. гуманит. исследований. Вице-през. Рос. ассоциации антиковедов. Чл. редакционно-издат. совета междунар. ж-ла по классич. традиции (International Journal of the Classical Tradition). Чл. бюро междунар. изд. «Корпус античных ваз» (Corpus Vasorum antiquorum). Жил на ул. Черняховского, 2. Список тр.: Георгий Степанович Кнабе: биобиблиогр. указ. / Сост. Т.В.Воронцова, Л.Н.Простоволосова; вступ. ст. Н.И.Басовской. М., 2007. Соч.: Избр. труды. Теория и история культуры. СПб.; М., 2006; Европа с римским наследием и без него. СПб., 2011. Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А–Я. Дополнения. М.: ОАО «Московские учебники», 2014 Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по теории культуры и истории Древнего Рима. – М.,1990. ЦИЦЕРОН. ЭСТЕТИКА ИДЕАЛА И ВЫСОКОЙ НОРМЫ Публичное красноречие, практике и теории которого Цицерон отдал свою жизнь, не исчерпывалось для него совокупностью риторических приемов. Подлинная сила красноречия, по его убеждению, была заключена в значительности мысли, в принадлежности оратора к культуре, в философском содержании речи: “Хорошим оратором может быть только тот, кто умеет мыслить; поэтому, кто посвящает себя красноречию, тот посвящает себя и мудрости”1. Тогда становится понятно, почему Цицерон, всего себя посвятивший овладению красноречием, писал, что у него “никогда ничего в жизни не было дороже философии” 2, а незадолго до смерти признавался: “Меня сделали оратором - если я действительно оратор, хотя бы в малой степени - не риторские школы, но просторы Академии. Вот истинное поприще для многообразных и различных речей: недаром первый след на нем проложил Платон”3. Нормой красноречия является синтез словесного искусства и духовного философского содержания, “ибо без мускулатуры, развитой на форуме, оратор не сможет иметь достаточно силы и веса, а без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса”4. Упоминание в цитированных суждениях об Академии и форуме показательно: боевое, темпераментное, направленное на решение жизненно важных практических вопросов, “мускулистое” искусство слова было стихией политики и права в столице мира - Риме, отвлеченное же умозрение, углубленное и обобщенное, - делом мыслителей Греции, давно пережившей пору героических конфликтов и реальных битв. Искомый синтез и эстетическое совершенство, в нем воплощенное, представали как союз греческого и римского начал. Сочинения Цицерона и в первую очередь его эстетические взгляды нельзя понять, не ощущая постоянно, до какой степени мысль этого арпинского гражданина, консулярия и Отца Отечества римлян пронизана греческой культурой. Он трижды подолгу жил в Греции, в совершенстве говорил и писал на ее языке, слушал ее философов и ораторов, был дружен со многими, а один из них, стоик Диодот, годами жил у него в доме. Греческие стихи звучат в памяти Цицерона постоянно, вплетаются в его латинскую фразу, перетекают в нее. Поздние его диалоги содержат сравнительный анализ главных направлений греческой философии, обнаруживающий особое, интимное их знание, знание изнутри, с деталями и тонкостями, с упоминаниями второстепенных авторов, а письма переполнены бесчисленными ссылками на Гомера, Софокла, Фукидида, Платона, Сократа, Еврипида, Антисфена. По письмам восстанавливается вообще вся его духовная генеалогия; учителя и авторитеты - сплошные греки: Аристотель, Карнеад, Посидоний, Филон, Диодот, Антиох и, разумеется, прежде всего Платон - “наше божество” 5. Вот все это духовное содержание и должно было влиться в общественную жизнь Рима, оплодотворить его красноречие, помочь ему найти художественную форму, слитую с “мудростью”. Поэтому Цицерон всю жизнь переводил с греческого. Поэтому одна из его постоянных мыслей состоит в том, что занятия философией должны не просто заполнять досуг образованного римлянина - то время, что остается от государственной деятельности, а быть элементом этой деятельности и служить критерием ее оценки. Особенно полно и ясно выражена эта мысль в письме Катону из Киликии от января 50 г. Завершив наместничество в Киликии, Цицерон просит Катона употребить свое влияние, дабы выхлопотать ему триумф - не только за успешные военные действия, но также за занятия философией, немало способствовавшие той же цели: “Мы едва ли не одни перенесли ту истинную и древнюю философию (то есть греческую. - Г. К.), которая кажется кое-кому делом отдохновения и праздности, на форум и в жизнь государства и чуть ли не на поле битвы”6. Он посвящает доказательству той же мысли одну из самых ярких и своеобразных своих речей - “В защиту поэта Архия”. Главный ее тезис состоит в том, что римское гражданство должно присваиваться иноземцам, и в частности выходцам из Греции, тогда, когда они обогатили Рим своей культурой, своим словесным искусством, и за то, что они перенесли на свою новую родину духовные сокровища старой. Таким перенесением занимаются, в сущности, и все подлинные римские ораторы, ибо греческое красноречие сохраняет для них значение нормы, по которой выверяется и красноречие римское. “Есть лишь одно красноречие - то, что родилось в Афинах” 7. Есть лишь один “вполне совершенный оратор, свободный от любых недостатков, - Демосфен” 8. Есть лишь один решающий рубеж в истории ораторского искусства - тот, что проходит по эпохе Демосфена, ибо “только до этого поколения сохранило красноречие здоровую, чистую кровь”9, а после него начало погружаться в софистику и поиски красоты слова ради красоты слова. Все дело, однако, было в том, что искомый синтез римского и греческого, а следовательно, красноречия и философии, а следовательно, и само “подлинное ораторское искусство” существовали и только и могли существовать как эстетическая программа или как некоторая на эту программу ориентированная парадигматическая деятельность отдельных лиц, а не как черта римской действительности. Не говоря уже о том, что в основе античного миросозерцания лежало представление о неповторимости и богоизбранности каждого отдельного полиса, о том, что Рим оставался покорителем Греции, а римские купцы, откупщики и прокураторы вельмож выжимали из Ахайи и Македонии все, что могли, и унижали их граждан, нимало не заботясь об эллинофильстве просвещенных ценителей искусства в Риме, - не говоря обо всем этом, презрение к умозрительной культуре, к художественной ценности как проявлению духовности, а следовательно, и к грекам как носителям этих качеств оставалось одной из основ римского народного этоса. Своим отрицательным отношением к грекам и всему греческому славился образцовый римлянин Катон Цензорий, солдаты Суллы дали себе в Греции волю и бесчинствовали, как хотели; одним из обстоятельств, положивших конец полководческой карьере Лукулла, приятеля и собеседника Цицерона, было солдатское возмущение, вызванное, в частности, демонстративным эллинофильством проконсула. Сам Цицерон, постоянно заботившийся о верности римским народным традициям, никогда не мог по-настоящему свести концы с концами в своей проповеди греко-римского синтеза. Известно немало его высокомерно-презрительных отзывов о греках; в речи Цицерона против Верреса объясняется разница между римским отношением к искусству как государственному делу и отношением греческим, на взгляд оратора пустым и несерьезным10. Многолетние размышления о соединении красноречия и философии в конце концов привели Цицерона к “Гортензию”, диалогу 45 г., сохранившемуся до наших дней лишь в отрывках, но где, скорее всего, содержалась апология философии в ее противопоставлении красноречию. Критерии и нормы эстетики “подлинного ораторского искусства” могли реализоваться не столько в жизни, сколько над ней, как пожелание и цель, оставляя низменную действительность ее противоречиям. В философских и исторических диалогах Цицерона царит совершенно особая атмосфера, предшествующей римской литературе, кажется, неизвестная, - атмосфера избранного интеллигентного кружка, члены которого, с одной стороны, вполне реальные деятели Римского государства, магистраты, полководцы, ораторы, и в то же время - высокообразованные люди, свободно владеющие всем богатством греческой культуры. Сплав обоих этих начал воплощен здесь в неповторимом тоне - простом и изящном, ученом без педантства и свободном без резкости, дружеском при всем сохранении различий в точках зрения. Этот тип общения, однако, и сам этот тип человека очень непросто соотносились с реальной римской действительностью. Он бесспорно существовал. Упоминавшийся выше Луций Лициний Лукуллбыл римлянин старой складки с головы до пят - отличался крайней pietas по отношению к отцу, а позже к брату, обнаруживал оба традиционных таланта римского аристократа - ораторский и полководческий, умело и до конца шел по дороге магистратур. В то же время он с отрочества увлекался греческой философией, писал греческие стихи, и Цицерон имел все основания посвятить ему один из своих философских диалогов, выведя его в качестве главного действующего лица. То же соединение и, соответственно, тот же тип культуры обнаруживаются и у других современников - Марка Тереющя Варрона, Марка Юния Брута, Гая Юлия Цезаря, как мы видели, у самого Цицерона, да и у многих других. Этому типу культуры, поведения и человека сопутствовала одна особенность, на первый взгляд внешняя, но, как вскоре выяснилось, связанная с самой сутью дела, - богатство. “Люди могущественные и видные, - писал Цицерон в трактате “Об обязанностях”, - находят наслаждение в том, чтобы их жизнь была обставлена пышно и протекала в изысканности и изобилии; но чем сильнее они к этому стремятся, тем неумереннее жаждут денег. Людей, желающих приумножить семейное достояние, презирать, разумеется, не следует, - нельзя, однако, ни при каких условиях нарушать справедливость и закон”11. “Семейное достояние” - это res familiares, старинная римская форма состояния, воплощенного прежде всего в земельной собственности, и “презирать его” не следует именно из-за его традиционного, чисто римского характера. Напротив того, “неумеренная жажда денег” дурна, ибо потенциально чревата нарушением справедливости и закона, но она же образует предпосылку того стиля жизни, который избрали в Риме I в. “люди могущественные и видные” - те самые, которые были перечислены только что как рафинированные римские интеллигенты, близкие Цицерону, участники его диалогов, те, кто формировал и воплощал подлинное красноречие. Их эллинофильство на практике выступало как принадлежность особого типа существования, который характеризовали свойства, здесь названные: apparatus - "пышный и роскошный стиль жизни, обстановки, утвари", elegantia - "утонченность, изысканность, оригинальность", copia - "изобилие". Все вместе они образовывали cultus vitae и все вместе оказывались внеположены исконно римской системе ценностей, ибо последняя была ориентирована на воинские и гражданские доблести, нестяжательство, восприятие искусства лишь как средства прославления государства и служения ему, на собственно римскую традицию. При всей своей архаичности эта последняя система ценностей была в эпоху Цицерона еще вполне живой, образовывала если не универсальную практику существования, то как бы его нормативный фон и контрастировала с противоположной системой - системой cultus12. Поэтому соотнесенными с системой cultus оказываются не только друзья и собеседники Цицерона, но, казалось бы парадоксальным образом, и такой негодяй, как Веррес, разоблаченный Цицероном в серии речей, специально ему посвященных. Веррес бесконечно алчен, нарушает тем самым этические заповеди римского магистрата, цинически разрушает римскую традицию, но в его нравственный нигилизм входит составной частью столь же неподобающая римскому магистрату, столь же чуждая римской традиции фанатическая любовь к произведениям искусства. И поэтому же Лукулл, Варрон, Цезарь, в диалогах Цицерона и в письмах его предстающие римско-греческими аристократами духа, в жизни не могли избавиться от своеобразных накладных расходов на cultus. Безумства этих богачей - огромные садки, где они лично выкармливают стаи хищных рыб, неправдоподобно изысканные виллы, пиры, не случайно вошедшие в историю под именем Лукулловых, и т. д.13, - выступая как особая форма культурного прогресса, были претензией на демонстрацию духовной сложности, необычной изысканности, от которых неотделимы были греческая образованность, способность воспринять красоту художественного слова или философского построения, но которые именно в силу этого отклонялись от укорененного в традиции, примитивного и живого народно-национального этоса, а потому несли с собой нечто противоестественное, замашки подгулявшего нувориша. Цицерон, человек глубоко, гениально одаренный, самостоятельно прокладывавший свой путь в культуре, не принадлежал, в сущности, к этому типу в его жизненной реальности, но и не был изъят из всей стихии cultus, неизбежно и объективно окрашивавшей греко-римский культурный синтез у людей его времени и его круга. Эстетический мир Цицероновых диалогов существовал, таким образом, лишь как часть идеализованной структуры, приподнятой над жизненными противоречиями, и только за этот счет обретал свое собственно эстетическое качество. Значит ли это, что учение Цицерона о народности речи как критерии ее качества - утопия и фикция? В том-то и дело, что нет, потому что между вульгарным языком повседневного уличного общения, способным “уловить благорасположение” толпы, и насыщенным глубоким ученым содержанием, риторически обработанным языком для знатоков, разрыв не абсолютен. Они могут быть соединены и реально соединяются магическим кристаллом искусства. Очень важно “почувствовать необходимость очистить язык и пережечь его на огне неизменных правил, а не следовать искаженным обычаям общего употребления”20, и подлинные художники слова, подлинные ораторы в состоянии удовлетворить этому требованию. Может показаться, что оно утопично, поскольку таких ораторов очень и очень мало, всего несколько человек - в сущности, Гортензий, сам Цицерон и Юлий Цезарь, - но раз эти несколько человек есть, то, значит, и само требование - не утопия, а нечто иное: норма, эстетический идеал. Как всякий подлинный и живой идеал, он отличен от непосредственной действительности, но в то же время укоренен в ней и в ней проявляется; он есть реальность, но реальность эстетически преображенная и потому возвышающаяся над реальностью эмпирической, хотя и обнаруживается в ней. “Цезарь... умеет исправлять выражение обычное, но неправильное и искаженное, на выражение обычное же, но чистое и правильное. Когда же к этой отборной чистоте латинской речи - без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина - Цезарь присоединяет еще и ораторские украшения, то кажется, что этим он сообщает блеск хорошо нарисованной картине... Красноречие его блистательно и чуждо всяких хитросплетений; в его голосе, движениях, облике есть что-то величественное и благородное”21. Соотнесенность эстетической нормы с идеалом и в то же время принципиальная воплотимость ее в художественной - в данном случае ораторской - практике наглядно иллюстрируется позицией Цицерона в споре аттикистов и азианистов, его учением о среднем стиле речи, и произведениями, это учение воплощающими. Описанные выше процессы в жизни и культуре Рима - формирование несколько снобистской эстетики cultus, увлечение всем эллинским, распространение риторики и связанных с ней представлений о самоценности ораторского искусства - привели к появлению в Риме двух контрастных и взаимосвязанных стилей красноречия. Один, рассчитанный на эмоциональное воздействие на слушателей больше, чем на их способность следовать логике доказательств, темпераментный, пышный и живописный, перегруженный риторическими фигурами, считался порождением греческой культуры в том ее варианте, что процветал в эллинистическую эпоху в полисах Малой Азии, и потому назывался азиатским, азийским, азианийским; в позднейшей традиции закрепилось последнее наименование. Другой, рассматривавшийся как противоположный, носил название аттического и предполагал четкую сухую речь, настолько краткую, а в устах римских ораторов еще и настолько перегруженную архаизмами, что восприятие ее требовало особых усилий и тренировки. Мы сейчас не можем вдаваться в сложный вопрос о том, в какой мере оба направления сохранили следы своего греческого происхождения, а в какой стали явлениями собственно римской культуры и каков был их идеологический смысл в общественных условиях Рима конца Республики22. Важно другое - что Цицерон почувствовал в обоих гипертрофию орнаментального начала, самолюбование оратора, отдавшегося соблазнам риторики (несущественно, какого именно из двух стилей) и забывшего об общественной ответственности оратора и о прямом прагматическом, политическом или судебном, смысле его искусства, забывшего о чистой и правильной народной речи, “без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина”. Об аттикизме и азианизме Цицерон подробно говорит в “Ораторе” (§ 20-33) и в специально посвященном данной проблеме сочинении “О наилучшем виде ораторов”. Только не нужно поддаваться могущему сложиться при знакомстве с ними впечатлению, будто, критикуя в первую очередь азианистов, Цицерон тем самым склоняется на сторону их противников аттикистов23. Сколько-нибудь внимательное чтение, тем более в контексте всей вообще теории риторики Цицерона, обнаруживает, что под аттическим красноречием он разумеет не римский аттикизм своих современников, а речь старых афинских ораторов, прежде всего Демосфена. Оно “аттично” не в том смысле, что противоположно азианизму, а лишь в том, что представляет в наиболее чистом виде красноречие, расцветшее в городе своего рождения, стоящее вне искусственных противоположностей краткости и пышности, архаики и моды и именно в силу этого сохраняющее значение классической нормы на все времена, в том числе и для римлян. Такая - употребим снова это слово как наиболее точное - приподнятая над контроверзами времени ораторская речь, соединяющая вклассическом синтезе греческий и римский культурный опыт, придающая художественную форму латинской народной языковой стихии, не порывая с живыми народными ее источниками, и представляется Цицерону его речью - живым единством судебно-политической практики и философско-эстетической нормы, единством, которое существует как цель, как стремление оратора, почти достигается, чтобы тут же снова ускользнуть и остаться недостижимым. Что бы там ни говорили рафинированные теоретики азианизма и аттикизма, “есть также расположенный между ними средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайностей обоих, входящий в состав и того, и другого, а лучше сказать, ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности, - разве что вплетет, как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей”24. Страницы, написанные этим стилем, с художественной точки зрения лучшее, что оставила нам римская классика. Так написаны Первая катилинария и речь “В защиту Целия Руфа” самого Цицерона, так написаны особенно сильные главы в целиком ориентированной на цицеронианский стилистический канон “Истории Рима от основания Города” Тита Ливия. Эстетика Цицерона, как мы помним, во многом возникла из острого ощущения опасности, создаваемой формализацией красноречия, сведения его к совокупности приемов, к риторике; соответственно, содержание эстетической теории Цицерона, с которой мы до сих пор имели дело, состоит в обнаружении субстанций, долженствующих заполнить риторическую форму, овладеть ею, подчинить ее себе и тем вернуть ей изначальный, подлинный смысл; в качестве таких субстанций выступали философия, эллинская культура, знание истории, права, политики Римского государства, языка его народа, особый тип мышления и поведения, позволявших соединять греческое с латинским. В середине жизни Цицерон в особенно отчетливой формулировке подвел итог своим размышлениям на эту тему, - настолько отчетливой, что это оправдывает пространную выписку. “Клеймите насмешкой и презрением всех этих господ, которые думают, что уроки так называемых нынешних риторов открыли им всю сущность ораторского искусства, но которым невдомек, какое имя они принимают и за какое дело берутся. Истинный оратор должен исследовать, переслушать, перечитать, обсудить, разобрать, испробовать все, что встречается человеку в жизни, так как в ней вращается оратор и она служит ему материалом. Ибо красноречие суть одно из высших проявлений нравственной силы человека; и хотя все проявления нравственной силы однородны и равноценны, но одни виды ее превосходят другие по красоте и блеску. Таково и красноречие: опираясь на знание предмета, оно выражает словами наш ум и волю с такой силой, что напор его движет слушателей в любую сторону. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью; а если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие” 25. Этот пассаж вводит в эстетическую теорию Цицерона еще одно понятие, понятие ключевое, с которым мы до сих пор не имели дела. Выражения, к нему относящиеся, в тексте нами подчеркнуты; речь идет о понятии красоты. Публичное красноречие всегда представлялось Цицерону результатом взаимодействия таланта и знании, с одной стороны, и эстетизирующей их особой ораторской техникой, с другой. Он и его современники называли эту технику ars, "искусство, умение, ремесло", и говорили о различных ее сторонах, формах, приемах, которые при соединении с природными данными оратора должны были привести к созданию шедевров ораторского искусства. Исходя из этого, Цицерон и посвятил первые две книги главного своего исторического труда - “Об ораторе” - различным сторонам ars. Но чем дальше шла работа, тем, по-видимому, становилось яснее, что при таком соединении оба взаимодействующих начала остаются каждое самим собой, что взаимодействие их носит поэтому внешний характер, что это никак не препятствует практической подготовке ораторов и может вполне обеспечить им успех в суде, но не дает принципиального, философского решения вопроса о том, в чем заключается единая “сущность ораторского искусства” как самостоятельного эстетического модуса духовного бытия. Тогда-то в поисках ответа на этот вопрос и родилось впервые, кажется, понятие красоты как особой, самостоятельной целостной сущности, и третья книга “Об ораторе” оказалась в большой степени посвященной именно ей: “Итак, красота речи состоит прежде всего как бы в некой общей ее свежести и сочности; ее важность, ее нежность, ее ученость, ее благородство, ее пленительность, ее изящество, ее чувствительность, или страстность, если нужно, - все это относится не к отдельным ее частям, а ко всей ее целокупности” 26. Тема эта в диалоге возникла, но развита не была - с ней в большей степени связаны произведения 40-х годов. Но уже при ее возникновении здесь, в диалоге “Об ораторе”, обозначились два навсегда связавшихся с ней мотива. Один - исторический. Внутренне многообразное единство философии, культуры, цивилизации, гражданского опыта, права, воплощенное в красноречии как силе одновременно нравственной, общественно действенной и лишь через все это обретающее эстетическое качество, не могло быть дано римскому обществу изначально и предполагало долгий и сложный путь развития; его надлежало описать и проанализировать, раскрыть, сказали бы мы сегодня, генезис красоты как сущности красноречия. Другой мотив в диалоге “Об ораторе” еще только-только угадывается: красота в изложенном выше смысле предполагает совершенство - “только представив себе предмет в совершенном виде, можно постичь его сущность и природу”27; но достижимо ли совершенство, а тем самым и возможно ли вообще в реальной жизни искомое высшее, подлинно прекрасное красноречие? По-видимому, все-таки да, раз “совершенство - дело для человека самое трудное, самое великое, требующее для своего достижения самой большой учености”28, а люди “самой большой учености” вокруг Цицерона тем не менее бесспорно были - достаточно назвать того же Теренция Варрона. Однако, весьма возможно, что и нет, раз участники диалога признаются, что так никогда в жизни и не видывали ни одного подлинно прекрасного, совершенного оратора29. С новой настойчивостью, куда ни обратись, возникал все тот же вопрос: что такое Красота, искусством создаваемая и в искусстве воплощенная, что такое, соответственно, совершенное красноречие и совершенный оратор - жизненная реальность или над жизнью возвышающаяся идеальная норма? Или и то, и другое? Истории красноречия в Риме посвящен диалог 46 года “Брут, или О знаменитых ораторах”. Его исходная проблема: как соотносятся ars и virtus - искусство и гражданская доблесть, совершенство художественное и совершенство нравственное. Ответ на этот вопрос в общем виде дан в § 67-69 и состоит в том, что красноречие рождается там, где продиктованная доблестью, обращенная к народу речь облекается в формы искусства и начинает использовать фигуры, тропы, “отделку”. Родина этих художественных форм - в Греции, но к ним самостоятельно шли и в Риме такие люди, как, например, Катон, так что можно говорить и о красноречии, чисто римском по своему происхождению. Но “только что возникшее не может быть совершенным”, а появлению подлинного красноречия, то есть красноречия как искусства, предшествовал в Риме длительный период его выработки, когда уже было воздействие словом на граждан, но еще не было “отделки”. При беглом чтении создается впечатление, что этот период, деятели которого неизменно вызывают у Цицерона весьма критическое отношение, длился примерно до эпохи Гракхов (130-120-е гг.), когда появились столь прекрасные ораторы, как Красс или Антоний (участники диалога “Об ораторе”), и процесс слияния virtus и ars пришел к своему завершению. Тут, однако, Цицерон вводит новый критерий ораторскогоискусства, которому не удовлетворяют и великие мастера поколения Красса и Антония, так что движение красноречия к совершенству должно вроде бы продолжаться, Этим новым критерием является культура, образованность, “более глубокие познания в философии, гражданском праве и истории” 30. Из людей, сменивших на форуме Красса и Антония, этому новому критерию никто удовлетворить не в состоянии, и Цицерон продолжает писать уже об ораторах своего и последующего поколения с тем же осуждением, а подчас даже с пренебрежением и насмешкой: “большинство из них умели говорить - и только”31. Когда один из участников диалога спрашивает его, где же все-таки этот подлинно совершенный оратор - он “уже появился или еще появится?”, Цицерон от ответа уклоняется: “„Не знаю", - ответил я”. Этот обмен репликами - центр сочинения. Заявленный изначально как сухой справочник по истории красноречия в Риме, диалог на самом деле выстраивается по всем правилам сложной драматургии. Начинается с экспозиции и нарастания действия. Исконно римские добродетели, носящие патриотический, политический, гражданский характер, обогащаются под греческим влиянием искусством и формой, становятся синтезом гражданства и человечности, Рима и Греции - короче, воплощением живой красоты. Вся история римского красноречия есть движение к этому синтезу, в конце концов обретаемому. И тут - кульминация: обретенное красноречие - подлинное, но не совершенное. Для совершенства требуется еще мудрость, прежде всего философская. Этим вторичным синтезом - талант, искусство, гражданская нравственность, философия - если и владеют, то всего лишь три человека: Брут, которому диалог посвящен, Гортензий, хвалебным гимном которому сочинение открывается, и, по-настоящему, один лишь Цицерон; темпераментное, риторически организованное перечисление качеств, делающих его единственного подлинно совершенным римским оратором, содержится почти в конце диалога, в § 322. Почти в конце, но не в самом конце. В оставшиеся десять параграфов вмещается еще один поворот сюжета - решающий, тонально смыкающийся с темой пролога: переход от подлинного красноречия к высшему и совершенному осуществляется в этих трех ораторах не столько потому, что они владеют философской мудростью (о Гортензии, например, в этом отношении ничего значительного не известно), сколько потому, что их творчество и жизнь внутренне сращены с демократией, с исторической субстанцией народа, с общенародным единством языка, то есть с делом республики, той республики, которая в пору написания диалога на глазах растворялась в монархической диктатуре Цезаря и готовилась уступить свое место в истории принципату. В момент, когда ораторское искусство достигает высшего совершенства, его почва и основа исчезают, а вместе с ними обреченным оказывается и оно само - порождение республики, от нее неотделимое, воплощающее ее дух и смысл. Развитие красноречия в Риме заканчивается тремя монументальными фигурами, которым уже уготовано место и жизнь в истории, - Антоний, Красс, из более молодых - Цезарь. Но совершенство не длится, и трем другим, пошедшим дальше и обретшим всю его полноту, нет смысла в живых оставаться - Гортензий уже умер, Цицерон скорбит о республике и о том, что зажился, Брут обречен - Цицерон еще этого не знает, но знают все последующие поколения читателей. Конец диалога утрачен. Несохранившийся текст, по всему судя, был невелик. Сюжет завершен: история римского красноречия кончается вместе с его исторической основой, и столь трудно обретенное совершенство принадлежит уже не конкретной, эмпирической истории Рима, а ее наследию. Новое время породило мысль о том, что дело искусства - отражать жизнь “как она есть”, породило соответствующую этому постулату практику от фламандской живописи и пикарески до реалистического романа XIX века, породило эстетические теории, согласно которым “прекрасное - это жизнь”. Эстетическое мировоззрение Цицерона принадлежит к принципиально иному кругу представлений, иной эпохе в истории искусства и иной культуре. Оно принадлежит культуре и искусству, основу которых составляет понятие идеальной нормы, понятие ответственности жизни перед более высоким началом, острое чувство красоты, возникающей на той грани, где действительность и идеальная норма, оставаясь каждая самой собой, в то же время проникают друг в друга, создавая некоторую особую эстетическую реальность. Этот строй мыслей и чувств и, как частный случай, та его модификация, что представлена эстетикой Цицерона, порождены античным миром и им навсегда переданы потомкам. Георгий Степанович Кнабе
(родился 20 августа 1920, в Коканде, Узбекистан) - российский историк, филолог, философ, культуролог. |
Популярное:
Новое
- К чему снится клещ впившийся в ногу
- Гадание на воске: значение фигур и толкование
- Тату мотыль. Татуировка мотылек. Общее значение татуировки
- Что подарить ребёнку на Новый год
- Как празднуют день святого Патрика: традиции и атрибуты День святого патрика что
- Как научиться мыслить лучше Я не умею быстро соображать
- Эти признаки помогут распознать маньяка Существует три способа достижения абсолютной власти
- Как спастись от жары в городской квартире
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?
- Слова благодарности для учителей: что написать в открытке любимому педагогу?